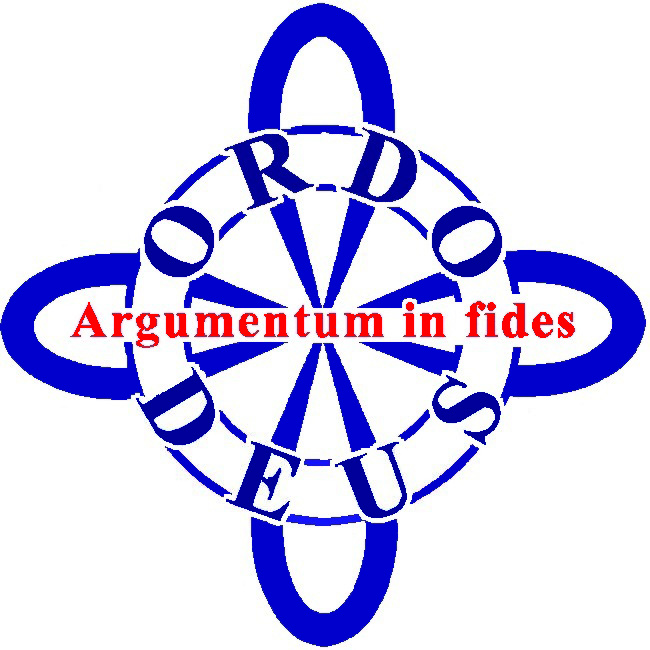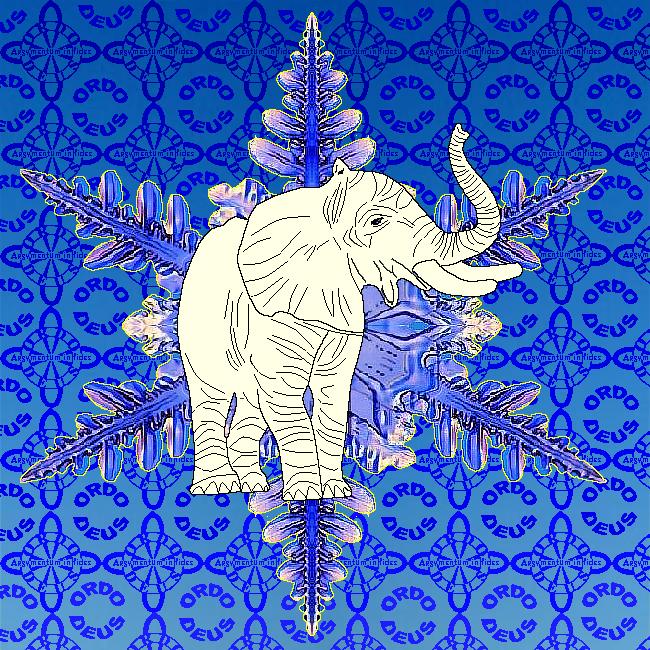Этюды о природе человека |
||

|

|
Оглавление
|
Этюды о природе человека
|
Оглавление
1 — Дисгармонии в инстинкте самосохранения
3 — Попытки философских систем бороться с дисгармониями человеческой природы
4 — Чего может достигнуть наука в борьбе с болезнями
5 — Введение в научное изучение старости
6 — Введение в научное изучение смерти
Дисгармонии в инстинкте самосохранения
Инстинкт самосохранения в мире животных.— Жизненный инстинкт у человека.— Слабое его развитие в молодости.— Буддистская легенда об инстинкте самосохранения и о страхе смерти.— О страхе смерти в литературе.— Исповедь Толстого относительно страха смерти.— Теория Толстого на этот счет.— Другие мнения об этом вопросе.— Страх смерти есть инстинктивное проявление.— Развитие жизненного инстинкта в течение человеческого существования.— Обращение со стариками.— Убийство их.— Самоубийство стариков.— Дисгармония жизненного инстинкта с условиями существования.— Роль страха смерти в религиях и в философских системах.
Общественный инстинкт человека был им приобретен только очень недавно и еще не пришел в достаточное равновесие; поэтому неудивительно, что он представляет столько дисгармоний и несовершенств. Наоборот, самосохранение, инстинкт жизни, должен был бы представлять высшую степень гармонического развития. В самом деле, он развивается через весь ряд существ до человека, в котором всего полнее и выражен.
Во всех организмах, начиная с самых низших, мы видим разнообразные приспособления, обеспечивающие сохранение особи. Существа, состоящие из одной только микроскопической капельки живого вещества (протоплазмы), снабжены очень прочной раковиной, предохраняющей их от вредных влияний, способных их уничтожить.
Существование растений обеспечивается то шипами, мешающими им быть съеденными, то выделением раздражающих веществ или настоящих ядов. У животных средства для самосохранения еще многочисленнее. Щиты и раковины, жидкие выделения, то издающие неприятный запах, то скрывающие бегство животного (как чернила, выделяемые сепией и другими головоногими), бивни, крепкие зубы и много других особенностей существуют лишь как орудие сохранения индивидуальной жизни. Если бы мы хотели остановиться на этом вопросе, то пришлось бы изложить целый учебник сравнительной анатомии животных и растений.
У низших существ сохранение особи достигалось без содействия сознательных или бессознательных психических актов. Но вскоре появились многочисленные инстинкты, обеспечивающие защиту. Одни организмы убегают при малейшей опасности. Другие избегают врага, окружая себя пенистой слизью, или собственными испражнениями, или даже разными посторонними телами. Все эти явления указывают на любовь к жизни и на глубокую потребность самосохранения во всем мире организованных существ.
Но все эти средства для устранения опасности и смерти могли применяться без того, чтобы животные имели сколько-нибудь определенное понятие о самой смерти. Несомненно, что иные животные в состоянии отличить живую добычу от мертвой. Некоторые хищники узнают трупный запах. Привыкшие питаться живой пищей отвергают мертвую: они руководствуются неподвижностью последней. В этом случае неполного понимания смерти легко обмануть животное: стоит искусственно двигать мертвую добычу или, наоборот, живой придать неподвижный вид. Многие насекомые, опасаясь преследования таких мало развитых врагов, сразу останавливаются и прикидываются мертвыми. Это поведение также относится к категории столь разнообразных естественных средств для обеспечения жизни особи.
Высший класс животных — млекопитающие, однако, обнаруживают полное непонимание смерти: многие из них остаются совершенно равнодушными при виде трупов своих родичей или же пожирают их, рискуя схватить смертельную болезнь. Таков пример крыс, поедающих трупы других чумных крыс. Утоляя свой голод, они сами заражаются смертельной чумой и передают ее другим видам, особенно человеку. Но рядом с этими млекопитающими, равнодушными к смерти себе подобных, бывают другие, обнаруживающие некоторый инстинктивный страх при виде трупов своих родичей. Лошади, проходя мимо лошадиного трупа, выражают некоторые признаки беспокойства и стремление к бегству. Точно так же быки на бойнях при виде избиения себе подобных выказывают чувство панического ужаса.
Но, несмотря на эти примеры, несомненно, что животные, даже стоящие выше всех на лестнице существ, не имеют никакого представления о неизбежной смерти, ожидающей все живущее. Это понятие приобретено родом людским.
Инстинкт самосохранения, несомненно, развит у человека. Он мало выражен при появлении его на свет, но уже резко проявляется у маленьких детей. При виде трупа они обнаруживают род панического страха, сходного с тем, который они испытывают, увидав змею или какое-либо другое опасное животное.
У молодых людей этот инстинкт самосохранения, тесно связанный с враждебным страхом смерти, развит еще не очень сильно. Часто он пробуждается только при особых условиях, как при опасности, испытанной во время болезни, несчастного случая или войны. Здоровые молодые люди, думающие, что они не подвержены страху смерти, часто сильно испытывают его при заболевании. Резюмируя свои впечатления от Севастопольской войны, Л. Толстой, которому в то время было всего 26 лет, выражается следующим образом: «Несмотря на увлечение разнородными суетливыми занятиями, чувство самосохранения и желания выбраться как можно скорее из этого страшного места смерти присутствовало в душе каждого. Это чувство было и у смертельно раненного солдата, лежащего между пятьюстами такими же ранеными на каменном полу Павловской набережной и просящего бога о смерти, и у ополченца, из последних сил втиснувшегося в плотную толпу, чтобы дать дорогу верхом проезжающему генералу, и у генерала, твердо распоряжающегося переправой и удерживающего торопливость солдат, и у матроса, попавшего в движущийся батальон, до лишения дыхания сдавленного колеблющейся толпой, и у раненого офицера, которого на носилках несли четыре солдата и, остановленные спершимся народом, положили наземь у Николаевской батареи, и у артиллериста, 16 лет служившего при своем орудии», и т. д.
Но при нормальных условиях жизни инстинкт самосохранения еще недостаточно обнаруживается в молодости. Поэтому юноши часто рискуют жизнью из-за незначительных причин; не заботясь о последствиях своих поступков, они делают всякие неосторожности, способные отразиться на здоровье и жизни. Часто в основе их поступков лежат очень возвышенные мотивы, но еще чаще они тратят силы на удовлетворение какого-нибудь инстинкта низшего порядка. Молодость — возраст самых бескорыстных жертв, но также и разнообразных злоупотреблений — алкоголем, половыми отправлениями и т. д. Думают, что чувство самосохранения всегда одно и то же и что смерть в 30 лет и в 60 отличается только степенью, соответствующею разнице лет.
Но молодые люди, с их еще мало развитым инстинктом жизни, часто очень требовательны. Испытываемые ими наслаждения слабы, в то время как страдания, вызванные малейшей неприятностью, очень остры. При этих условиях они легко становятся или эпикурейцами, в грубом смысле слова, или же склонными к самому крайнему пессимизму.
«Edite, bibite, post mortem nulla voluptas» — было поговоркой немецких студентов, жаждавших наслаждения; они не ведали хода развития жизненного инстинкта у человека в разные возрасты.
С другой стороны, подводя итоги ощущениям счастия и горя, вернее своей природе юношество уменьшает ценность первых и преувеличивает тяжелые ощущения. Оно приходит, таким образом, к пессимистическому мировоззрению и объявляет жизнь человеческую злом. Следует заметить, что Шопенгауэр напечатал свою теорию пессимизма в возрасте 31 года. Последователь его Гартман уже в 26 лет объявил существование злом, от которого во что бы то ни стало следует избавиться.
Наоборот, оптимистические теории жизни были развиты или людьми, достигшими преклонных лет, или же такими, которые, вследствие особых условий, оценили счастье бытия.
В противовес пессимистическим теориям немецких философов, Дюринг в своем сочинении «Der Werth des Lebens» формулировал оптимистическое воззрение. Между тем Дюринг был тогда слепым. Знаменитый английский ученый сэр Джон Леббок напечатал сочинение «Счастие бытия», начинающееся фразой «Жизнь есть большое благо». Его мировоззрение совершенно отличается от пессимистического, но он высказал его в 53 года.
Давно известно, что жизнь больше ценится стариками, чем молодыми. Так, Руссо говорит: «Мы всего более заботимся о жизни по мере того, как она теряет свою ценность. Старики более сожалеют о ней, чем молодые».
Размышление это вполне справедливо и подтверждается множеством фактов.
Я весьма близко знаком с ученым, чувствовавшим себя очень несчастным в молодости. Одаренный очень усиленной чувствительностью к страданиям, он всевозможными мерами старался их успокоить. Какая-нибудь неприятность способна была погрузить его в полнейшее угнетение, против которого он боролся наркотическими средствами. Во избежание нравственных страданий он прививал себе болезнетворные микробы. Впоследствии, когда он достиг зрелого и пожилого возраста, его усиленная чувствительность уступила место менее острым чувствам. Он ощущает зло уже не с такой силой, как в молодости. Наоборот, он гораздо больше ценит положительную сторону существования, и даже в случаях горя ему никогда не приходит в голову сократить свою жизнь. В молодости он был пессимистом и думал, что зло значительно преобладает над благом. В более позднем возрасте его оценка жизни совершенно изменилась.
Конечно, не надо быть старым, чтобы согласиться, что смерть — большое зло. «Тот лжет, кто утверждает, что не боится смерти,— сказал Ж. Ж. Руссо — Всякий человек боится умереть, это великий закон чувствующих существ, без которого все смертные существа вскоре были бы уничтожены. Боязнь эта — простое проявление природы, не только безразличное, но хорошее по существу и согласное с порядком вещей».
Часто люди выражают равнодушие к смерти; но надо хорошенько разобрать это чувство для того, чтобы как следует понять его. Я познакомился с очень пожилой женщиной, желавшей умереть и, по ее словам, нисколько не боявшейся смерти. Разобрав поближе этот случай, мне легко было убедиться, что имею дело с серьезно больной, думающей, что одна смерть может избавить ее от страданий. Узнав о возможности излечения, она обнаружила настоящую радость при мысли о возможности жить без постоянного страдания.
Инстинкт самосохранения и боязнь смерти, которая есть не что иное, как одно из проявлений первого, имеет самое существенное значение в изучении человеческой природы. Поэтому нам необходимо остановиться на нескольких примерах, способных выяснить этот вопрос.
Уже в древности задача эта вызвала много размышлений. Одним из лучших рассказов на эту тему бесспорно служит буддийская легенда. Молодой принц Сакиа-Муни, основатель буддизма, желая углубиться в сущность вещей, склонялся покинуть свет и стать монахом. Чтобы помешать этому, отец велел воспитывать его в великолепном замке, где он мог наслаждаться всеми благами, вдали от всех тяжелых впечатлений. При этих условиях он никогда не видел ни стариков, ни больных, ни мертвых. Несмотря на запрещение, молодой царевич несколько раз совершал тайные прогулки в колеснице. При первом своем выезде он встретил на дороге «старика, разбитого, ветхого, с выступающими жилами на теле, с шатающимися зубами, покрытого морщинами, седого, сгорбленного, согбенного, как своды крыши, угнетенного, опирающегося на палку, дрожащего всеми членами и всеми частями членов». Узнав от своего возницы, что это старик, что «у всякого творения старость уносит молодость», что никому не миновать старости и что «для творения нет другого пути», — принц был так поражен, что сказал своему вознице: «Горе неведающему и слабому творению, разум которого опьянен гордостью молодости и не видит старости! Скорее поворачивай колесницу, я хочу вернуться. Что мне до забав и удовольствий, когда я — будущее жилище старости!»
В другой раз Сакиа-Муни встретил на дороге человека, удрученного лихорадкой, телесно ослабленного, двигающегося с трудом. Узнав от своего возницы, что это больной, юный принц воскликнул: «Итак, здоровье — как игра сновидения! И боязнь болезни является такой ужасной! Какой же мудрый человек, увидав такие условия существования, может еще думать о радости и об удовольствии?» Через некоторое время после этого Сакиа-Муни вышел в третий раз и увидел мертвеца, лежащего на носилках, покрытого полотняным покровом и окруженного толпой родственников. Все они плакали, жаловались, стонали; волосы их развевались, они посыпали головы пылью и били себя в грудь, следуя за ним. Под сильным впечатлением, вызванным видом мертвеца, принц произнес следующие слова: «Горе молодости, подкапываемой старостью! Горе здоровью, разрушаемому разными болезнями! Горе кратковременной жизни человеческой! Горе прелестям удовольствия, соблазняющего сердце мудреца!»
Эти размышления Сакиа-Муни легли в основу буддизма, проникнутого пессимистическим воззрением на человеческую природу. Современные пессимисты последовали по тому же пути. Как известно, Шопенгауэр с юных лет был очень поглощен великими вопросами человеческого бытия. В своих письмах мать упрекает его за «жалобы на неизбежное», это доказывает, что уже в 27 лет он возмущался неизбежностью смерти. Вопрос о ней был одним из наиболее интересовавших его. Боязнь болезни и смерти была у него так велика, что во время первой холерной эпидемии 1831 года он покинул Берлин (под влиянием смерти Гегеля, умершего от холеры) и переехал во Франкфурт, где не было холеры. И действительно, Шопенгауэр утверждает, что «величайшее несчастие и вообще самое худшее, что может случиться, — это смерть; и самая сильная боязнь есть страх смерти». Невозможность избегнуть ее навела его на пессимистическую философию.
Во все времена литература, как и философия, была очень занята задачей смерти. Эдмонд Гонкур рассказывает в своем дневнике, что при встречах с товарищами вопрос этот всего чаще составлял предмет их беседы. Вот содержание одной из них: «Сегодня мы возобновили наш обед пяти; недостает Флобера, и присутствуют Тургенев, Золя, Додэ и я. Нравственные неприятности одних, физические страдания других наводят на разговор о смерти... и беседа длится до 11 часов, подчас стремясь уклониться в сторону, но опять возвращаясь к той же мрачной теме».
Додэ говорит, что для него это навязчивая идея, отрава жизни, и что он никогда не переходил на новую квартиру без того, чтобы глаза его не поискали места и вида собственного гроба.
Золя рассказывает, что «когда мать его умерла в Медане, лестница оказалась слишком узкой, и гроб пришлось спустить через окно. Взгляд его никогда не падает на это окно без того, что он не спросил себя, кто первый спустится через него: он или жена?.. Да, с этого дня смерть всегда в глубине наших мыслей и часто... ночью, глядя на мою жену, которая не спит, я чувствую, что она думает о ней, как и я, и мы остаемся так, никогда не намекая на то, о чем думаем оба... из чувства стыда, да, известного рода стыда. О! эта мысль ужасна и страх следует за ней. Бывают ночи, когда я неожиданно вскакиваю с постели и стою одно мгновение в состоянии несказанного ужаса».
Эд Гонкур поверял Жану Фино, «что жизнь его была бы облегчена от тяжелой ноши, если бы ему удалось изгнать из своего сознания мысль о смерти». Последний прибавляет, что «в достопамятном собрании у Виктора Гюго почти все знаменитые гости на вопрос о их взгляде на смерть откровенно сознавались, что она постоянно вызывает в них страх и грусть».
Из всех современных писателей, бесспорно, всего более занимался задачей о смерти Лев Толстой. Во многих из своих сочинений он посвятил ей незабвенные страницы, но из всего известного мне самая поразительная и глубокая картина находится в его «Исповеди».
Читатель будет мне благодарен за приведение главных мест, касающихся этого вопроса. Пусть он вспомнит сначала приведенный выше рассказ об осаде Севастополя. Все перед опасностью ощущали страх смерти, но чувство это, особенно у 26-летнего молодого человека, не овладевало всем его существом.
Только незадолго до 50 лет представился Толстому вопрос смерти во всей его остроте. Вот как описывает он начало кризиса: «На меня стали находить минуты недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это проходило, и я продолжал жить по-прежнему. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще и все в той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: зачем? ну, а потом?»
В течение некоторого времени Толстой не отдавал себе хорошенько отчета о своем состоянии, но мало-помалу стал углубляться в его анализ и пришел к следующему выводу: «Истина была то, что жизнь есть бессмыслица. Я будто жил-жил, шел-шел и пришел к пропасти, а впереди меня ничего не было, кроме исчезновения. И остановиться нельзя, и назад нельзя, и закрыть глаза нельзя, чтобы не видеть, что ничего нет впереди, кроме страданий и настоящей смерти — полного уничтожения».
«И в таком положении я пришел к тому, что не мог жить и, боясь смерти, должен был употреблять хитрости против себя, чтобы не лишить себя жизни». «Я не мог придать разумного смысла ни одному поступку во всей моей жизни, Меня только удивляло то, как мог я не понимать этого в самом начале. Все это так давно всем известно. Не нынче — завтра придут болезни, смерть (и приходили уже) на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие бы они ни были, все забудутся — раньше, позднее, да меня-то не будет. Так из чего же хлопотать? Как может человек не видеть этого и жить — вот что удивительно. Можно жить, покуда пьян жизнью, а как протрезвился, то нельзя не видеть, что все это только обман и глупый обман! Верно только то, что в этом даже нет ничего смешного и остроумного, а все это просто — жестоко и глупо».
Не зная, как выйти из этого противоречия в жизни, Толстой остановился на любви своей к семье. «Семья, — говорил я себе; но семья — жена, дети; они тоже люди. Они находятся в тех же самых условиях, как и я: они или должны жить во лжи или видеть ужасную истину. Зачем же жить? К чему мне любить их, беречь, растить и блюсти их? Для того же отчаяния, которое во мне, или для тупоумия? Любя их, я не могу скрывать от них истины, — всякий шаг в познании ведет их к этой истине. А истина — смерть».
В заключение этого ряда рассказов, которые должны дать читателю достаточное представление о любви к жизни и о страхе смерти, мне остается еще прибавить пример, почерпнутый уже не из литературы, а из повседневной действительности. Дело идет о смерти «священнослужителя в одной из христианских общин. Он был верующим, как Франциск Ассизский, невинным, как девственница, строгим аскетом; милосердие освещало всю его жизнь». «Логическая необходимость требовала, чтобы смерть его была спокойной. Если бы он был героем романа, автор не мог бы придумать ему другой смерти». Вот как дело произошло в действительности, судя по письмам близкого друга умирающего, из которых мы почерпаем следующие места. «Наш бедный друг трагически борется грудь о грудь со смертью. Смиренный, спокойный, уравновешенный, он в ужасе от приближения смерти. Это раздирающее зрелище вызывает слезы. И мы бессильны не только облегчить его физически, но и не в состоянии успокоить ужасающее нравственное страдание этого самообладающего ума, жаждущего жизни и живым входящего в смерть». «Я бы мог еще, — вскрикивал он, — прочесть курс теологии или политической экономии, а между тем надо умирать... Ужасно быть при полном сознании... Лучше было бы потерять способность мыслить... И чего просили мы у бога? Вечного блаженства! Это все равно, как если кто-нибудь из ваших работников просил бы у вас тысячу франков за рабочий день! Вы бы ответили ему: „Что за шутки! Мой друг, вы безумны!" Тяжело умирать! Признаюсь вам, друг мой, что в таком состоянии переделываешь свою религию и видоизменяешь свою философию. Благость бога не то, что мы себе представляем. Над нами висит тайна... Неужели смерть есть источник ужаса для тех, кто во всю свою жизнь творил одно добро?»
Что же такое эта любовь к жизни, делающая смерть столь ужасной? Много занимались этим вопросом, и сам Толстой напечатал статью «О страхе смерти». Он пытается доказать, что это чувство есть результат ложного взгляда на жизнь. «Люди, боящиеся смерти, боятся ее оттого, что она представляется им пустотой и мраком, но пустоту и мрак они видят потому, что не видят жизни».
По мнению Толстого, человек не должен бояться смерти более, чем какой бы то ни было другой перемены, постоянно испытываемой в. жизни. «Ведь ни один человек не боится заснуть, — говорит он, — хотя при засыпании происходит совершенно то же, что и при смерти, именно прекращается сознание времени. Человек не боится того, что засыпает, хотя уничтожение сознания совершенно такое же, как и при смерти...».
Толстой думает, что страх смерти есть некоторого рода предрассудок, исчезающий, если только взглянуть на жизнь в ее настоящем значении.
Другой русский писатель, Токарский, напечатал исследование о страхе смерти, в котором также старался доказать неосновательность этого страха. Автор был психиатром и сознавал, что поражен неизлечимой смертельной болезнью. Поэтому его исследования страха смерти должны были иметь личную подкладку. Опираясь на свидетельство целого ряда лиц, бывших в смертельной опасности, Токарский утверждал, что последняя нисколько не страшна и потому ее нечего бояться.
То же мнение позднее высказывал Фино. Он подкрепляет его такими же аргументами, как и его предшественник. Он думает, что человек сам создал страх смерти и что в нем большую роль играет неизвестность будущего. «Позади видимого для нас всегда кроется нечто невидимое, и оно-то пугает нас». Фино считает совершенно ошибочной мысль, будто смерть сопровождается страданием; он приходит к выводу, что «невежество и предрассудки создали эту предвзятую мысль, приводящую нас в ужас и столь противоположную действительности». В самом деле, некоторые примеры лиц, которым грозила смерть и возвращенных к жизни, подтверждают мнение Фино, будто смерть не только не сопровождается страданиями, но скорее возбуждает приятные ощущения. Так, по словам швейцарского ученого Гейма, туристы, испытавшие опасные падения в горах и бывшие так близко к смерти, что чувствовали ее приближение, ощущали главным образом приятное состояние.
Несомненно, что в некоторых случаях смерти ощущения скорее спокойны и приятны; но не менее верно, что во многих других случаях, составляющих большинство, чувство приближения смерти, наоборот, очень тягостно. Но вопрос этот вовсе не обязательно связан со страхом смерти у людей, еще не умирающих. А между тем именно этот страх всего существеннее в жизни человека. Люди, умирающие с голода, не ощущают тягостного чувства в минуту смерти. Страдание от ощущения голода в тесном смысле слова длится только некоторое время. У человека оно продолжается около 20 часов, после чего усталость и слабость вовсе не сопровождаются чувством голода. Здесь существует, следовательно, некоторая аналогия со страхом смерти, который иногда не длится до конца жизни.
Фино спрашивает себя: инстинктивен ли страх смерти? «Вопрос этот, — говорит он, — имеет большое значение, так как „инстинктивен" означало бы, во-первых, независимость от нашей воли, чувство, не поддающееся воспитанию. Во-вторых, он должен был бы проявляться всегда и всюду при приближения смерти. Между тем изучение многочисленных случаев предсмертного состояния и рассказы людей, избегших смертельной опасности, приводят к противоположному заключению». Голод есть, несомненно, инстинктивное ощущение, а между тем его чувствуют не всегда, когда организм истощен недостатком пищи или когда ему грозит голодная смерть.
Более глубокое изучение фактов не оставляет никакого сомнения в том., что страх смерти действительно инстинктивное чувство. Это заметно уже у различных высших животных и выражается в совершенно сходной форме с другими инстинктивными проявлениями.
Тот близкий друг, о котором я упоминал выше, уже целыми годами был подготовлен к смерти и смотрел на нее совершенно спокойно. Убежденный в том, что он по возможности выполнил уже свою роль, он не только находил совершенно естественным прекращение своей жизни, но ему была даже противна мысль о будущей старости, быть может, болезненной, во всяком случае очень тягостной. Итак, с точки зрения рассуждения и воли не могло быть и речи о малейшем страхе смерти. Тем не менее наблюдая в своем организме некоторые болезненные признаки, которые могли сделаться смертельными, он испытывал совершенно особое чувство, которое было именно инстинктивным страхом смерти.
Разбирая рассказ Толстого в его исповеди, мы также усматриваем, что предвидение собственного небытия и состояния праха, поедаемого червями, означает не что иное, как инстинктивный страх смерти; размышление не в состоянии уничтожить это чувство. Сказать кому-нибудь, как это сделал Толстой в своей статье о страхе смерти, что последний представляет собою предрассудок, с которым надо бороться рассуждением, — приблизительно то же, как убеждать женщину, у которой удалены яичники, что, не будучи в состоянии рожать, она не имеет никакой причины ощущать половое чувство. Она, тем не менее, ощущала бы его потому, что оно не зависит ни от какого рассуждения, а просто инстинктивно.
Впрочем, давно уже за страхом смерти признан инстинктивный характер. Так понимал его Шопенгауэр. По его мнению, «с точки зрения сознания, нет никакой причины бояться смерти. Сознание, слагающееся из познания, никоим образом не должно смотреть на смерть как на зло. Поэтому именно несознательная часть нашего „я" и боится смерти; этот fuga mortis (страх смерти), наполняющий все живые существа, исходит исключительно из нашей слепой воли». Эта «слепая воля» есть не что иное, как чисто инстинктивное чувство, не имеющее ничего общего с сознательной волей в тесном смысле слова.
Не пускаясь в длинные рассуждения по этому поводу, Байрон давно пришел к тому выводу, что страх смерти есть инстинктивное душевное проявление. Так, в своей поэме «Каин» он говорит:
Я живу, но для того, чтоб умереть,
Хотя ничто меня не заставляет
Смерть презирать, но лишь инстинктом жизни,
Инстинктом неизбежным, ненавистным,
Я понимаю ужас этой смерти
И сам себе, помимо воли, стал
Противен я. И эта жизнь! О, если б
Не знал я никогда подобной жизни!
В другом месте той же поэмы Байрон говорит устами Каина;
...Не вкусив познания
Добра и зла, о смерти он не знал,
Я сам ее не знаю, но боюсь,
Не ведая причины той боязни.
Нельзя, следовательно, сомневаться в том, что в числе инстинктов, которыми одарена человеческая природа, существуем один, ценящий жизнь и страшащийся смерти. Инстинкт этот развивается медленно и растет постепенно с годами. В этом отношении он представляет поразительную разницу со многими другими инстинктивными движениями. Когда голод, жажда, половое чувство утолены, наступает удовлетворение, могущее дойти до пресыщения и даже до утомления. Такое состояние длится различное время и уступает место новому пробуждению тех же инстинктивных потребностей.
Что касается жизненного инстинкта, то дело происходит совершено иначе. Инстинкт этот, большею частью развивающийся поздно, усиливается и обостряется в течение жизни. Дети и юноши всегда очень желают стать взрослыми. Но, достигнув зрелых лет, человек никогда не желает состариться. Он с большим огорчением замечает появление первых морщин и седых волос. Вместо того, чтобы ощущать удовлетворение от большей части пройденного жизненного цикла, он испытывает, наоборот, сильную грусть, видя свое приближение к смерти. Старость почти всегда отличается отсутствием красоты и чем-то отталкивающим и даже страшным. Маленькие дети выражают явный испуг при виде очень старых людей; поэтому их часто пугают стариками.
Всем известно, как распространено убийство стариков у первобытных народов. Туземцы Фиджи закапывают живыми своих старцев под тем предлогом, что они стали вполне бесполезными. Обычай этот распространен во всей Меланезии; он встречается также в Новой Каледонии и в большинстве островов, соседних с Полинезией. Вообще старость презирают в этой части земного шара. Австралийцы уважают пожилых людей, пока они деятельны, но как только старики становятся беспомощными, их покидают. Часто их убивают и поедают, что соответствует туземным религиозным понятиям.
По исследованиям Гримма, древние германцы «убивали стариков и больных и часто закапывали их живыми».
Современные цивилизованные народы, несомненно, далеко ушли вперед, они более не убивают стариков; они терпят их, предоставляя им, правда, право самоубийства. Во многих странах часто отказывают старикам в работе под предлогом, что они недостаточно сильны, и в то же время их не допускают в приюты под предлогом, что они еще недостаточно стары. Разбирая вопрос средней и нормальной жизни, Поль Бэр следующим образом высказался о стариках: «они заслуживают приветливости, внимания и ухода, но продолжительность их жизни не должна быть более предметом общественной заботливости».
А между тем, несмотря на эти свойства старости, делающие ее ужасной, бесполезной и в лучшем случае только терпимой, несмотря на физическую и умственную слабость стариков, инстинкт жизни сохраняется у них во всей силе. Чтобы отдать себе в этом отчет, я часто посещал приюты для стариков и легко убедился в том, что все они желают еще долго жить. В приюте, дающем убежище людям довольно высокой культуры, последние утверждали, что постоянно чувствуют себя под гнетом смерти, точно осужденные на казнь.
В Сальпетриэре глубокие старухи очень многочисленны. На семидесятилетних смотрят там почти как на молодых. Главное желание девяностолетних и более старых женщин заключается в том, чтобы дожить до 100 лет. Желание жить — всеобщее.
Указанный здесь факт на первый взгляд будто бы противоречит другому, хорошо доказанному статистикой, по которому число самоубийств увеличивается с возрастом. Действительно, старики лишают себя жизни гораздо чаще молодых людей. Это несомненно. Но только изучая ближе статистические данные, мы видим, что главная причина самоубийства заключается не в исчезновении инстинкта жизни, а преимущественно в невозможности для стариков зарабатывать на свое существование, а также и в частых болезнях. Лишенный средств к жизни, не принятый в приют, старик прибегает к угару или к веревке. Хроника старческих самоубийств показывает нам, что большинство жертв падает на бедняков. Самоубийство обеспеченных и богатых стариков всего чаще вызывается неизлечимостью их болезней. Впрочем, в этом направлении остается выяснить еще многое. А именно, было бы очень интересно знать больше подробностей относительно внутренних причин, по которым старики решаются лишать себя жизни. В последнее время всеобщее внимание было привлечено самоубийством знаменитого немецкого гигиениста Макса фон-Пэттенкофера. После блестящей ученой карьеры, 76-ти лет он отказался от профессуры в Мюнхенском университете и поселился недалеко от Мюнхена в поместье, отдавая свое время садоводству и другим деревенским занятиям. Несмотря на сахарную болезнь, он сохранял еще умственные способности, но смерть близких людей повергла его в крайнюю грусть. К тому же в последний период жизни он страдал серьезным гнойным воспалением шеи. Эта болезнь, сама по себе не смертельная, сделалась, однако, причиной смерти Пэттенкофера, который застрелился на 83-м году. Вскрытие обнаружило довольно хорошо сохранившийся организм, помимо хронического воспаления мозговых оболочек, с сильным атероматозом мозговых артерий. Обстоятельства этого самоубийства известны нам лучше, чем во многих других случаях; тем не менее, и здесь остаются еще некоторые темные стороны, имеющие большую важность. Как бы то ни было, наличность хронической болезни мозговых оболочек у старого ученого делает сомнительным предположение, чтобы его самоубийство зависело от явлений одной нормальной жизни. С другой стороны, существует немало стариков очень высокой и утонченной культуры, сильно привязанных к жизни, даже в гораздо более преклонном возрасте, чем Пэттенкофер.
Относительно жизненного инстинкта замечается то же, что и относительно полового инстинкта у многих женщин. Как любовь к жизни всего сильнее тогда, когда лучшая часть ее пройдена, так и половое наслаждение часто ощущается женщинами только тогда, когда красота их уже отцвела.
Эд Гонкур рассказывает в своем дневнике, что в собраниях литературных знаменитостей (Золя, Додэ, Тургенева) интимные разговоры всего чаще вращались вокруг любви к жизни и к женщине. «Странная вещь, — говорит Гонкур, — смерть или любовь всегда составляют предмет наших послеобеденных разговоров». Вышеназванные писатели в ту эпоху чувствовали приближение старости, и совершенно естественно, что их всего более занимали оба инстинкта, упорство которых кажется нам таким загадочным и парадоксальным.
Из предыдущей главы мы знаем, до какой степени дисгармоничен половой инстинкт, часто развивающийся и почти всегда сохраняющийся в период жизни, когда правильная и нормальная деятельность его невозможна. Мы видели также то зло, к которому ведет эта дисгармония воспроизводительного аппарата. Но там дело касалось хотя серьезного неудобства, однако такого, с которым еще можно было примириться.
Гораздо важнее дисгармония жизненного инстинкта, обнаруживающегося по мере приближения смерти. При таких условиях разлад этот становится и непонятным и особенно ужасным. Вот почему человечество с незапамятных времен искало ключ к этой трагической загадке и старалось всеми силами разобрать ее.
Религии во все времена были очень озабочены этой задачей «Религия, — говорит Гюйо, — представляется большею частью размышлением о смерти. Если бы мы были бессмертны, несомненно, у нас все-таки существовали бы предрассудки, но, вероятно, не было бы систематизированных предрассудков и не было бы религии».
Философия также старалась разрешить великий вопрос смерти. Уже некоторыми древними философами была высказана мысль, что философия — не что иное, как размышление о смерти. Так, Сократ и Цицерон говорили: «...жизнь философа есть постоянное размышление о смерти». То же положение развивал Шопенгауэр: «Смерть, — говорит он, — настоящая вдохновительница или муза философии... Мало вероятно даже, чтобы без смерти могла существовать философия. Поэтому совершенно естественно, что я ставлю специальное изучение смерти во главе моего последнего, самого серьезного и значительного труда».
Все факты, собранные в трех последних главах, устраняют всякое сомнение в том, что человеческая природа, во многих отношениях совершенная и возвышенная, тем не менее, проявляет очень многочисленные и крупные дисгармонии, служащие источником многих наших бедствий. Не будучи приспособленной к условиям жизни, как, например, орхидеи к оплодотворению при помощи насекомых или как роющие осы к сохранению своего потомства, природа человеческая скорее напоминает насекомых, инстинктивно привлекаемых к свету и обжигающих себе крылья.
Даже в такие времена, когда люди не имели еще никакого точного представления о человеческой природе, они, тем не менее, уже смутно понимали ее дисгармонию и стремились помочь этому великому злу.
В следующих главах мы постараемся познакомить читателя с этим важным вопросом и укажем те меры, которые предпринимались человеком против дисгармоний его собственной природы.
Попытки уменьшить зло, |
Анимизм как основа первобытных религий.— Отношение еврейской религии к верованию в бессмертие души.— Китайские религии.— Почитание предков в религии Конфуция.— Представление бессмертия в религии таоистов.— Бессмертие души в религии буддистов.— Рай китайских буддистов.— Почитание предков наравне с богами.— Влияние религиозных верований на страх смерти.— Пессимизм учения Будды.— Значение нирваны.— Смирение, проповедуемое Буддой.— Возражения против бессмертия души.— Чувствительность клеток нашего организма.— Религиозная гигиена.— Приемы религий в регулировании воспроизводительной функции и сохранении здоровья.— Неуспех религий в борьбе с дисгармониями человеческой природы.
Человечество не могло ждать научного выяснения дисгармоний нашей природы для борьбы с ними. Желание жить, сохранить здоровье, удовлетворять инстинктам и согласовать их с самых ранних ступеней сознательной жизни заставляло человека придумывать различные средства для устранения несовершенств своей природы.
Мы уже видели, что инстинкт, контролирующий выбор пищи, даже у животных не в состоянии предохранить от потребления вредных веществ. С давних пор человек должен был убедиться в недостаточности инстинктов и пуститься в поиски более точных указаний для различения полезной пищи от способной вызывать заболевание и смерть. Для выработки известных правил гигиены вся проницательность первобытного человека должна была направляться на наблюдение за действием питательных веществ.
Воспроизводительная деятельность со своими многочисленными несовершенствами точно так же с незапамятных времен привлекала внимание человека, впадавшего в ошибки при слепом повиновении инстинктам.
Инстинкт жизни и страх смерти лежали в основе побуждений первобытного человека в его искании выхода из трудного положения, созданного дисгармониями его природы. Именно в интересах здоровья и жизни приходилось отыскивать полезную пищу и регулировать половое отправление.
С пробуждением разума человек судил о неизвестном по аналогии с тем, что ему было наиболее знакомо, т.е. с самим собой. Вот почему он приписывал всем окружавшим его предметам свойства и побуждения, присущие ему самому. По его мнению, не только все живые существа обладали волей и умом, но даже и неодушевленные тела способны были действовать подобно человеку.
Из этого первобытного понятия и возникло то, что Тэйлор назвал анимизмом, «этой основой философии религий диких рас и цивилизованных народов». Умирая, человек не вполне исчезает, а только превращается в новое состояние. Труп живет не так, как мы, но, тем не менее, он продолжает жить, — особенным образом, хотя и сходно с нами. Такое представление отвечало потребности сохранения жизни и боязни смерти, — т.е. полного исчезновения. Оно есть не что иное, как вера в бессмертие, или в будущую жизнь.
Анимизм — понятие весьма распространенное по всему земному шару. Очевидно, что оно служило самым действительным утешением при сознании неизбежности смерти вместе с величайшим желанием жить. «Это детское желание игнорировать смерть и убедить себя в том, что мертвые могут продолжать действовать по-прежнему, — говорит Тэйлор, — естественно привело дикарей к тому, чтобы хоронить своих родных вместе с оружием, одеждой и украшениями, служившими им при жизни. По этой же причине до погребения мертвых снабжали пищей, вкладывали им в рот сигару и клали игрушки в гробы детей и т. д.».
На несколько высшей стадии развития первобытный человек должен был переработать эту слепую фантазию в логическое рассуждение. «Когда человек умирает и душа его улетает из тела, для снабжения ее пищей, одеждой и оружием надо хоронить эти предметы с трупом или жечь их».
Здесь излишне описывать все проявления анимизма первобытных дикарей. Более или менее явные следы его встречаются даже у большинства, если не у всех, наиболее цивилизованных народов. Большое число фактов, относящихся к этому вопросу, собрано в известных сочинениях Тэйлора, Леббока, Вайц Герланда. Мы ограничимся приведением некоторых наиболее характерных из них.
Туранские народы восточной Азии хоронят вместе со своими мертвецами разного рода орудия: топоры, кремни, и пищу (говядину, масло). Они убеждены, что все эти предметы необходимы покойному в его долгом путешествии в страну духов.
Тасманиец, спрошенный о том, зачем кладут копья в могилу, отвечал, как само по себе понятное: «Да для того, чтобы уснувший мог употреблять их в битвах!»
Гренландцы кладут луки и другое оружие в могилы мужчин, и ножи, иголки и разные швейные принадлежности — в могилы женщин: они убеждены, что предметы эти будут очень полезны на том свете.
В области Конго существует обычай проделывать отверстие в могиле, на месте, соответствующем рту или голове покойника, и ежемесячно вводить этим путем запасы твердой пищи и напитков.
Многие народы не довольствуются тем, чтобы класть возле мертвого одни неодушевленные предметы. Караибы, думая, что души умерших после смерти переходят IB царство мертвых, убивают рабов на могиле вождей для того, чтобы они служили им в будущей жизни. С этою же целью они погребают собак в оружие. Негры Гвинейского побережья на похоронах знаменитых людей убивали нескольких женщин и рабов для того, чтобы они служили им на том свете. В то же время они погребали их лучшие одежды, позолоченные фетиши, кораллы и жемчуг для того, чтобы мертвый мог наряжаться во все эти драгоценности.
Тэйлор утверждает, что анимистические понятия общераспространены между "всеми дикарями без исключения".
По Герберту Спенсеру, если не у всех, то почти у всех народов, племен, обществ, наций мы находим многочисленные доказательства существования смутных или определенных верований в воскресение двойников умершего. Предположение, что источником такого распространенного верования служит видение образа умерших во сне, вполне основательно. Эти сновидения принимают за души, остающиеся бессмертными и навещающие живых.
У всех цивилизованных народов встречаются обычаи, происхождение которых должно быть отнесено к далекому прошлому.
Так, испанцы в день годовщины смерти своих родных кладут на их могилы хлеб и вино.
Болгары чествуют своих мертвых в вербное воскресенье. Они обильно едят и пьют и оставляют на могилах остатки поминок, которые доедаются ночью умершими.
Сэн-фуа рассказывает, что в 1389 г. на похоронах Бертрана Дюгеклэна в Сен-Дени было принесено в жертву несколько лошадей. Епископ Осерский благословил лошадей возложением рук на их головы, после чего они были убиты.
В 1781 г. на похоронах генерала Фредерика Казимира в Трире его лошадь вели за гробом, согласно обычаям тевтонского ордена. Когда труп генерала был опущен в могилу, то лошадь убили и похоронили в той же могиле.
B настоящее время у цивилизованных народов больше не приносят в жертву ни людей, ни даже животных. Но множество других обычаев, постоянно соблюдаемых во время похорон, определенно указывают на их анимистическое происхождение.
Таковы: кутья, которую ставят возле покойников в России, хвойные ветви, разбрасываемые вдоль всего пути похоронного шествия, венки из бессмертников или других цветов, играющие такую важную роль в наших похоронах; последний обычай имеет очень древнее происхождение. Он существовал у римлян и, по всей вероятности, символически представляет будущую жизнь в стране, полной цветов и роскошной растительности.
Вера в загробную жизнь, столь распространенная на всем земном шаре, очевидно, послужила основой всем религиям. Мы не можем останавливаться здесь на подробном рассмотрении этого вопроса. Его изучение значительно превосходит размеры нашей задачи и требует гораздо более обширных сведений, чем наши. Достаточно установить очень важный факт, что у народов, живущих в различных областях нашей планеты, при самых разнообразных условиях внешней среды и культуры, имеется убеждение, что смерть не есть настоящий конец существования, а только переход от настоящей жизни к будущей. Тем не менее, ввиду важности вопроса невозможно удовлетвориться одним признанием этого факта, оставляя без рассмотрения некоторые возражения, выдвигаемые против всеобщности веры в загробную жизнь.
Многие настаивают на том, что в библейском изложении еврейской религии отсутствует представление о будущей жизни. Еще недавно Гэккель повторил столь распространенное мнение, будто в древней, наиболее чистой еврейской религии не существует «веры в бессмертие души; ни в Пятикнижии, ни в более ранних книгах Ветхого завета, написанных до вавилонского пленения, — нигде не находим мы представления о продолжении индивидуальной жизни после смерти».
Эти указания верны только до известной степени. Правда, что в книгах Моисея нет речи ни о будущей жизни, ни о рае и аде в обыкновенном смысле этих слов; но, тем не менее, древние евреи разделяли со столькими другими народами известное представление о переживании после смерти. «Подобно-почти всем без исключения первобытным народам, — говорит Ренан, — и иудеи верили в своего рода двойственность личности, в существование тени, представляющей бледный и нетелесный облик, который после смерти спускается под землю и там ведет грустный и мрачный образ жизни в темных покоях». «Мертвые жили там без сознания, без представлений, без воспоминаний, в мире без света, покинутые богом». «Большинство... старалось запастись хорошим пристанищем, удобным ложем на время своего пребывания у Рефаимов. Жизнь теней представляли себе, как протекающую в общении с предками, в разговорах и отдыхе вместе с ними».
Некоторые места Пятикнижия указывают на почитание предков, тесно связанное с представлением о загробной жизни. Так, Иаков, видя приближение смерти, призвал своих сыновей и завещал им похоронить его не в Египте, а вместе с отцами своими в пещере Ефрона хеттеанина.
По Шантепи де ла Сосе, «анимизм, и именно поклонение предкам, у израильтян, как и у большинства других народов, имеет гораздо большее значение, чем прежде думали».
Очень замечательно то, что представление будущей жизни, еще туманное в древнеевропейской религии, со временем определялось все более и более. Так Иезекииль (VI века до н.э.) рисует следующую картину будущих событий: «Иегова вдохнет жизнь в разбросанные кости мертвых».
Мысль эта еще яснее развита в тех строках книги Даниила. (II век до н.э.), где он говорит, что «некоторые из спящих в земле проснутся для жизни вечной, а другие — для позора и вечного бесчестия». Приведя эти последние слова, Ренан прибавляет: «Ясно, что Израиль достиг крайнего предела своего векового стремления — царствия божьего, синонима будущего и воскресения. Чуждый понятию о самостоятельной душе, переживающей тело, Израиль не мог представлять себе будущую жизнь иначе, как воскрешая цельного человека». Позднее, в талмуде, мысль о будущей жизни развита с большими подробностями. Рай представляется местом, наполненным чудными благоуханиями, а ад же — нечистым местом, полным грязи и навоза. По талмуду, «в загробной жизни нет ни пищи, ни питья. Праведные сидят с венками на головах и с восторгом созерцают бога».
В каббалистической философии евреи усвоили учение переселения душ «Гильгуль» и думали, что душа Адама перешла в Давида и позднее перейдет в мессию. Некоторые людские души превращаются в души животных, в листья деревьев и даже в камни.
Итак, еврейская религия только с большими ограничениями может служить примером отсутствия представления о загробной жизни.
Религии, исповедуемые китайцами, также приводились как пример отсутствия представления о бессмертии.
Так, Бюхнер в своей книге «Сила и материя», считавшейся материалистическим кодексом второй половины XIX века, утверждает, что «буддизм — эта выдающаяся религия, наиболее распространенная и одна из самых древних, насчитывающая в числе своих последователей около 1/3 всех жителей земного шара, вполне игнорирует бессмертие души».
Положение это встречается также у Гэккеля в его «Загадках Вселенной» — книге, служащей сводом материалистических теорий конца XIX века. «Вера в бессмертие души, — говорит этот автор, — вполне отсутствует в большинстве восточных наиболее развитых религий. Мы не встречаем ее в буддизме, обнимающем еще и поныне 30% всего населения земли. Она также отсутствует в древней народной религии китайцев, а также в религии Конфуция, ее заменившей».
Этот вопрос следует рассмотреть глубже. Вполне установлено, что основание древней религии китайцев заключается именно в очень сильно развитом поклонении предкам. Все важные события семьи происходят «в присутствии предков». Они — связь между живущими родными. Как и в других приведенных примерах анимизма и поклонения предкам, мертвым предлагают кушанья и окружают их полезными им предметами.
По Ревиллю, «вообще китайцы допускают принцип личного бессмертия. Было бы совершенно непонятно, что могла бы явиться мысль предлагать настоящую пищу существам, на которых смотрели бы как на исчезнувших или возвратившихся в бессознательное „все"».
Предлагая мертвым пищу, одежду, драгоценности, китайцы смотрят на загробную жизнь, «как на очень мало отличающуюся от той, которую ведут они сами на земле. Мертвые продолжают интересоваться теми же вещами и людьми, им нравится та же пища».
С развитием идеи загробной жизни изменились также и обычаи. Вместо того, чтобы предлагать мертвым вещественные предметы, как это еще делается у столь многих народов, китайцы предлагают им одни символы: «бумажные дома, материи, «ревизию, куклы, представляющие рабов; но все это — бумажное или соломенное — сжигают для того, чтобы в нематериальной форме это дошло до чествуемого таким образом духа».
Одной из главных причин поклонения предкам служит боязнь, чтобы «мертвые, недовольные тем, что их забывают, не выказали живым своего негодования, посылая им болезни и разорение».
Поклонение мертвым пустило такие глубокие корни у китайцев, что даже сам Конфуций, несмотря на свое умственное развитие и свой скептицизм, должен был заплатить ему обильную дань. «Мудрый Конфуций, — говорит Ревилль, — считал долгом приносить в жертву своим предкам мясо, которое посылали ему владыки, чествуя его».
Конфуций и его последователи выражались относительно будущей жизни с большою сдержанностью и двусмысленностью, что не мешало им «точно следовать обычаям и обрядам, предполагавшим полнейшую веру в будущую жизнь человеческой личности».
Если сам Лао Цзы не верил ни в рай, ни в ад и исповедовал даже очень рационалистические идеи, то последователи его, тем не менее верили в бессмертие души и даже в конце концов приняли учение о посмертной награде и наказании по заслугам.
Приверженцы Лао Цзы, лаосисты, совершенно исключительным образом интересовались вопросом о бессмертии. Прежде всего надо было найти напиток бессмертия, способный продлить до бесконечности земную жизнь. «Одна из главнейших претензий даосизма, — говорит А. Ревилль, — состоит в обладании тайной бессмертия. Правда, что получить ее очень трудно, но еще труднее ее применить. Однако, следуя известным указаниям, можно по крайней мере получить патент на долголетие. Только совершенные даосисты достигают той нравственной высоты, которая открывает им переход в высший мир без болезни и смерти».
Так, некоторые учителя даосизма вознеслись живыми на небо: Шанг-Тао-Линг «поднялся на высокую горную вершину и исчез в небе».
Современные даосисты вполне приняли идею бессмертия души. «Они признают вполне приспособленное чистилище, к форме которого Лао-Цзы пришел расширением и распространением на всех людей уже близкой ему идеи последовательного переселения одной и той же души через ряд тел. Эти очистительные переходы ведут к тому бессмертию, которым обладают гении и блаженные, если такое бессмертие еще не достигнуто святостью земной жизни».
Долго думали, что даосисты по примеру своего основателя не признают ада. Но пришлось изменить это мнение, тем более что «даосистское духовенство придумало изображать в своих храмах, посвященных божествам — покровителям различных городов, мучения, предназначенные грешникам десятью судилищами, скрытыми на дне океана, таящегося в недрах земли».
Итак, множество китайцев-конфуцианцев и даосистов верят в загробную жизнь.
Буддистам в особенности приписывают отрицание бессмертия души. Будда признавал браминское верование в переселение душ. Об этом свидетельствуют многие документы, выдержавшие строгую критику. Относительно бессмертия души православный буддизм высказывается ясно. Сам Будда избегает окончательного решения этого вопроса. При таких условиях «души, со страхом взиравшие на небытие и которые не могли отдаваться от ожидания вечного блаженства, должны были по-своему толковать молчание Будды и заключать, что им не воспрещена надежда».
Вот каким образом старались буддийские учителя обойти прямую постановку этого трудного вопроса. Король Посемади встретил однажды известную своею мудростью последовательницу Будды монахиню Кеми. Король спросил ее: «Существует ли Совершенный (Будда) после смерти?» — «Божественный, о великий король, не дал откровения о существовании Совершенного после смерти». — «Итак, о почтенная, Совершенный не существует после смерти?» — «Этого также не открыл Божественный, о великий король!» — «Итак, о почтенная, Совершенный одновременно существует и не существует после смерти? Итак, о почтенная, Совершенный ни существует и ни не существует после смерти?».
Вот каким образом Сумермит, «сын бога, окруженный и предшествуемый толпой богов», восхвалял Будду (Татагата): «Ты искусный врач, дающий счастие бессмертия».
Легко понять, что за отсутствием строго определенных указаний буддисты не замедлили последовать своему влечению и признали в принципе загробную жизнь.
Итак, «буддизм вовсе не проповедует, как это легкомысленно утверждают в настоящее время, уничтожение души человека после смерти. Напротив того, он так убежден в естественном переживании души, что только по отношению к немногим избранным допускает, как особое преимущество, возможность нарушить непрерывающуюся цепь жизни».
Верные основным началам своей древней религии, китайские буддисты продолжали поклоняться своим предкам и искать наилучшего пути для достижения бессмертия. Поэтому они не замедлили превратить нирвану в рай и распространить в китайском народе идею о посмертном возмездии. «Буддистские монастыри в Китае обыкновенно заключают целый ряд маленьких келий, в которых яркими красками изображены сцены, наполняющие 18 адов стенаниями и воплями. Потому что под землей находится восемь адов, в которых жара невыносима, и десять, в которых холод не менее ужасен».
Рай китайских буддистов Ни-Пан (страна чистоты) — место, заключающее множество золота, серебра и драгоценных камней. Прелестные места для прогулок омываются хрустальными водами, текущими по золотому песку, покрытому чудными цветами лотоса. Там вечно звучит дивная музыка. Три раза в день падает цветочный дождь. Каждые четыре часа чудные птицы — фазаны и другие хором воспевают красоты религии и напоминают своим слушателям о Будде, Дарму и Сангу... Таковы чудеса, ожидающие тех, которые возродятся после смерти. Там нет греха и нет ничего дурного».
Бесполезно входить в большие подробности, чтобы доказать ложность мнения, будто треть человечества следует материалистическому мировоззрению, в котором нет места для идеи о загробной жизни; наоборот, совершенно ясно, что значительное большинство людей убеждено, что смерть не есть полное окончание существования, и часто настоящая жизнь представляется только переходною ступенью к будущей. Но в то время, как многие первобытные народы считают последнюю простым продолжением земной жизни, народы с более утонченными идеями представляют себе будущую жизнь полной наслаждений для праведных и мучений для грешников.
Эта идея будущей жизни, столь распространенная по всему земному шару, по всей вероятности, легла в основу религий. Она должна была дать начало представлению о высших существах, о божествах. Действительно, многие факты указывают на то, что первичные боги были не что иное, как умершие родичи и предки, живущие на том свете и управляющие оттуда земными делами. Злые предки превращаются в злых духов, а добрые выполняют роль благодетельных и доброжелательных богов.
Очень многие народы молятся предкам и считают их более или менее божествами. Кафры приносят жертвы и молятся своим умершим родным. Они думают, что души умерших посещают свои прежние жилища и сообразно со своим характером помогают или вредят живым. Будучи способными на добро и зло после смерти, эти умершие родные еще не могут считаться настоящими божествами. Но, как говорит Леббок, не следует упускать из виду, что «бог дикаря — существо, мало отличающееся по своей природе от него самого, разве только несколько могущественнее его». Мы увидим, что между умершими родными, злодеяний которых боятся или о милостях которых умоляют, и между различного рода божествами существует целая гамма промежуточных ступеней.
Индейцы Северной Америки умоляют духов своих предков ниспослать им хорошую погоду или удачную охоту. Они думают, что если индеец погибает от огня, то это происходит исключительно потому, что духи предков наказывают его за небрежное исполнение обрядов и жертвоприношений.
Начэсы Луизианы пошли еще дальше: они строят храмы в память своих мертвых. В Полинезии, в Танне «души умерших предков почитаются как боги; старые вожди после смерти становятся божествами, управляющими жатвой и сбором плодов. Туземцы молятся им и приносят им в жертву первые плоды».
Островитяне Малайского архипелага молят духов своих предков о счастии и помощи в бедствиях.
Почитание мертвых очень развито в Африке. Зулусы совершают свои победы при помощи «аматонгов», или духов предков.
«Даже малые дети и старухи, не играющие никакой роли при жизни, после смерти становятся могущественными духами. Дети становятся добрыми духами; старухи — творящими одно зло. Но особенным почитанием семьи пользуется ее умерший глава». Зулус боготворит отца — своего главу и к нему обращается в начале и в конце молитвы. Помня его любовь и ласки, он убежден, что отец не оставит его и после смерти. Эту идею обоготворения предков зулусы распространяют до первого родоначальника людей и создателя мира, до первого «ункулункулу».
Нет возможности привести здесь все примеры — до того они многочисленны. По существу они сходны и отличаются только во второстепенных, очень разнообразных подробностях.
Представление о будущей жизни в виде бессмертия или иных понятий, связанных с идеей много- или единобожия, развилось вследствие потребности жить и противодействовать страху смерти, т.е. для борьбы с величайшим разладом человеческой природы.
Поэтому нам следует рассмотреть, в какой мере различные религии достигли этой цели.
Многие первобытные народы буквально понимают религиозное учение о бессмертии и смотрят на обещание загробной жизни, как на неопровержимую истину. Так, туземцы островов Фиджи убеждены, «что они возродятся в ином мире в том же точно виде, в котором они покинули землю; поэтому они желают умереть раньше наступления какой бы то ни было болезни». И так как очень трудно достигнуть старости без болезни или какой-нибудь немощи, то «как только человек чувствует приближение старости, он предупреждает своих детей, что ему пора умирать. Если же он не говорит этого, то дети сами предупреждают его. Собирают семейный совет, назначают день и роют могилы. Старик делает выбор между удушением и погребением заживо».
Следующий пример показывает, до какой степени может доходить вера в будущую жизнь. Молодой фиджиец однажды пришел к английскому путешественнику Генту для того, чтобы пригласить его на похороны своей матери. Гент принял приглашение и присоединился к похоронному шествию.
Удивленный отсутствием трупа, он спрашивает об этом молодого человека. Последний «указал ему на свою мать, идущую среди них столь же веселой и спокойной, как и все присутствующие. Гент выразил юноше свое удивление и спросил его, как он мог его обмануть, сказавши, что мать умерла, в то время как она жива и здорова. Ответом было, что только что совершилось похоронное пиршество и что теперь будут ее хоронить, что она старая, что он решил вместе с братом, что она достаточно пожила и что пора ее убить, на что она согласилась с удовольствием».
Приведенный пример не исключителен. Известны целые города с несколькими сотнями жителей, между которыми не было людей старше 40 лет, потому что все старики были погребены. Легко понять, что при такой ревностной вере люди могут не бояться смерти.
По Скулькрафту, индейцы Северной Америки очень мало боятся смерти. «Они не боятся перейти в страну, полную беспрерывных наслаждений, в которой, как им приходилось постоянно слышать, нет ни горя, ни печали».
Мне самому знаком пример православной девочки, которая была так убеждена в блаженстве рая, что во время серьезной болезни с нетерпением ожидала смерти. Перед смертью она уверяла, что уже видит чудные цветы и слышит дивное пение райских птиц.
Но такая беспредельная вера исключительна. Всего чаще она недостаточна для того, чтобы уничтожить страх смерти, как это доказывает множество примеров.
У одних только фанатиков, несложных и первобытных натур слепая вера может победить инстинктивное чувство страха смерти. Вот почему с древнейших времен религии старались найти, помимо иллюзии будущей райской жизни, другие средства для ослабления главного разногласия в человеческой природе. В этом отношении, с нашей точки зрения, наиболее интересно учение Будды. Я не имею при этом в виду того измененного и переделанного буддизма, о котором выше шла речь и который вернулся к представлению загробной жизни, страшного ада и рая, полного наслаждений.
Будда не увлекался никакими иллюзиями относительно великого зла человеческого существования. Его учение в своем первоначальном виде было чрезвычайно пессимистично. Вот что говорил он по этому поводу: «Несомненно, несчастен этот мир, созданный, рождающийся, стареющий, умирающий, исчезающий и вновь появляющийся. Но нам неизвестен способ, как выйти из этого мира, который есть не что иное, как громадное скопление страданий. Старость, болезнь, смерть и остальное, — увы, — то, что может положить предел этому миру — одному громадному скоплению страданий, — того мы не знаем! Предел всему, что происходит от старости, болезни, смерти и остального!».
Встречи, о которых шла речь в предыдущей главе, внушили Будде следующие размышления: «Горе юности, подтачиваемой старостью! Горе здоровью, разрушаемому разными болезнями! Горе кратковременной человеческой жизни! Горе притягательной силе наслаждений, соблазняющих сердце мудреца! Если бы не было ни старости, ни болезни, ни смерти с тем великим страданием, которое вытекает из пяти элементов существования (скандас)! Если бы не было ни старости, ни болезни и смерти всегда связанных друг с другом! Хорошо! Вернувшись назад, я стану размышлять об освобождении!».
После долгих дум об этих вопросах Будда предположил, что ему удалось разрешить задачу проповедью полного смирения. В молодости он просил отца: «Я желаю, властитель, чтобы старость никогда не овладела мной и чтобы я не потерял ярких красок молодости; да буду я всегда здоровым и болезнь да не постигнет меня; да будет жизнь моя безгранична, и да не наступит смерть». Позднее ему пришлось отказаться от всех этих требований.
В своей знаменитой бенаресской проповеди Будда следующим образом резюмирует главные положения своего учения: «Вот, о монахи, святая истина о происхождении страдания: это — жажда бытия, ведущая от перерождения к перерождению, сопутствуемая наслаждением и желанием, находящим там и сям свое удовлетворение: жажда наслаждения, жажда бытия жажда могущества».
«Вот, о монахи, святая истина о подавлении страдания: погашение этой жажды полным уничтожением желания, упразднением желания, отказом от него, освобождением от него, вытеснением его».
Под влиянием этого духа смирения Будда постригся в монахи и жил, строго следуя начертанным им правилам непорочности («непорочная вера, непорочная воля, непорочная речь, непорочные применения, непорочное внимание, непорочное размышление»).
Однако не много нашлось людей, стоящих на такой высоте и имеющих силу оставаться верными этим правилам. Вследствие этого буддизм вскоре отдалился от своих первоначальных основ и стал обыденным религиозным учением.
С идеей буддизма неизбежно связано представление о нирване, так как предполагают, что это именно и есть та настоящая цель, к которой должна стремиться человеческая жизнь. Многие философы, особенно пессимисты с Шопенгауэром во главе, признали нирвану высшею целью существования даже с точки зрения их собственного миросозерцания. Но идею нирваны объясняли очень различно. Это тем более понятно, что лучшие санскритологи еще не пришли к соглашению относительно значения этого слева.
Я не хочу вмешиваться в эти споры, так как не обладаю главным орудием — знанием санскритского языка. Но, с другой стороны, я не вправе и умолчать об этом существенном вопросе под предлогом, что он не окончательно решен специалистами, тем более, что для многих мыслителей нирвана представляется настоящею целью человеческого существования.
Долгое время считали нирвану родом небытия, в котором нет никаких проявлений психического порядка. Знаменитый оксфордский санскритолог Макс Мюллер восстал против этого воззрения. Он указал на то, что во всех местах буддистских источников, в которых упоминается о нирване, она не имеет смысл уничтожения. Большая часть таких мест осталась бы даже совершенно непонятной, если бы слово уничтожение было употреблено вместо «нирваны».
Это мнение разделяют и многие другие специалисты, не допускающие, чтобы целью религиозной жизни могло быть полное уничтожение. Так, Рис Давидс думает, что нирвана соответствует душевному покою, которого можно достичь во время земной жизни, и что это понятие можно перевести словом «святость». По его мнению, нирвану никоим образом нельзя понимать в смысле небытия или уничтожения, а скорее как отсутствие сильных страстей, каковы зависть, ненависть и пр.
Пфунгуст присоединяется к мнению Макса Мюллера; он также убежден в том, что «первоначальные последователи Будды никоим образом не могли признать нирвану уничтожением». Дульманн, наоборот, старается доказать, что нирвана буддистов все же может означать отрицание желания бытия, т. е. полное уничтожение.
Следует, однако, сказать, что нирвана не играет в буддизме столь существенной роли, как утверждают это некоторые истолкователи. Недаром в некоторых буддийских источниках о нирване упоминается только вскользь. Так, в «Лалита Вистара» слово это приводится только очень редко и не представляет при этом особенного значения. Но в этом же документе мы находим несколько данных, способных осветить вопрос о том, что такое нирвана.
Когда молодой Будда, еще полный желаний, просил отца даровать ему вечную молодость, здоровье, беспредельную жизнь и отсутствие смерти, он прибавил следующие слова: «Если вы не дадите мне этих четырех даров, владыка, выслушайте, какой еще другой дар я желаю: да не будет для меня переселения души когда кончится эта жизнь!».
Как уже было упомянуто, буддизм принял браминское учение о переселении души. По преданию, прежде чем стать владыкой Будда прошел через сотни различных состояний. Душа его не только прошла через 58 королей, но пробыла в 18 обезьянах, 4 лошадях, 4 змеях, 3 ящерицах, 2 рыбах и т. д. Эти вечные переходы души через столько различных тел должны были сильно смущать и занимать верующих. Поэтому совершенно естественно, что такой мыслитель как Будда возымел желание отделаться и освободить других верующих от стольких Переселений. Он смотрел на эти вечные перерождения как на великое зло, от которого можно избавиться непорочностью жизни.
Картинный язык индусов сравнивал переселение душ с океаном. Ежеминутно сменяющиеся волны должны были изображать в этой метафоре постоянные рождения; пена гребней волн соответствовала нашему переходящему телу, а другой берег являлся нирваной. «Тот, кто достигнет нирваны, больше не вернется в великий океан Сансары». В одной цитате, приведенной Рисом Давидсом из Кама Сутта, определенно говорится, что «море представляет переселение душ, или Сансары; нирвана же — остров Достигнув его берега, можно быть уверенным, что не будешь больше сброшен в волны океана для последовательных возрождений метемпсихозы».
Другими словами, чтобы избегнуть после смерти страданий, соединенных с постоянными, часто нежелательными перерождениями, надо вести непорочную жизнь, и тогда будет обеспечен покой, или нирвана. Последняя, следовательно, не есть полное отрицание всякого психического состояния, а только отрицание переселения души. С этой точки зрения легко объяснить все или почти все места, в которых идет речь о нирване
Когда Будда в старости, пораженный тяжкой и мучительной болезнью, был близок к смерти, он подумал о своих учениках и сказал им: «Не следует мне войти в нирвану, не поговоривши с заботившимися обо мне, с общиной моих учеников Силой воли хочу я превозмочь эту болезнь и удержать в себе жизнь».
Через некоторое время благочестивейший Аманда отправился к Будде и сказал ему, между прочим, следующие слова: «Дивный не войдет в нирвану до тех пор, пока он не выскажет свою волю относительно общины учеников».
Все более и более слабея, дух Будды восходит от экстаза к экстазу, беспредельно, по всем ступеням восторга; затем он вошел в нирвану. И земля задрожала и гром загремел.
Очевидно, что здесь нирвана употребляется в смысле состояния, соответствующего смерти. Но это — смерть святого, проведшего непорочную жизнь. Он будет избавлен от метемпсихоза и будет наслаждаться душевным покоем. По всей вероятности, позднее то же слово нирвана применялось к душевному состоянию того, кто благодаря своему непорочному существованию был еще при жизни уверен, что избежит переселения души после смерти.
Так как смысл нирваны состоит главным образом в противопоставлении переселению душ, то легко понять, почему не определялось, какому душевному состоянию она соответствует.
Но, судя по всем данным, касающимся буддийской религии. совершенно невероятно, чтобы речь шла о полном уничтожении. В этом отношении всего основательнее мнение Макса Мюллера.
Итак, Будда предполагал, что людские страдания могут быть исцелены отречением от всех жизненных наслаждений и полным смирением. Один тот факт, что первоначальный буддизм не удержался и быстро переродился в обыденную религию, сходную со многими другими верованиями, — одно это доказывает, что Будда не достиг цели. Обещание вечной жизни одно соблазнило массу и послужило распространению буддизма на такие громадные пространства.
Кроме своей главной задачи — утешения человечества ввиду неизбежности смерти — религии касаются и некоторых других вопросов, вытекающих из дисгармонии в человеческой природе.
Во все времена они стремились к регулированию деятельности органов пищеварения и воспроизведения, а также к предупреждению и лечению разных болезней.
Всем известно сильное влияние религий на выбор и на приготовление пищи. Еще и до сих пор многие народы сохранили кулинарные обычаи, предписанные правилами религии. Так, у евреев пища определена моисеевым законом, который входит даже в подробности стряпни. Он запрещал употреблять в пищу кровь животных. Вот что повелевает Моисей: «Ты можешь вволю убивать и употреблять мясо животного, в каком бы городе ты ни жил, по благословению господа бога твоего. Как оскверненный, так и чистый может есть его, как дикую козу или оленя. Только крови не вкушайте; выливайте ее на землю, как воду». И далее: «Остерегайся только есть кровь этих животных, потому что кровь — их душа, чтобы не съесть душу с мясом». «Не ешь ее, дабы быть счастливым тебе и детям твоим после тебя, если ты совершишь по воле господа бога твоего и как он находит должным».
Книги Моисея заключают также правила приготовления некоторых блюд. «Не ешь ничего недопеченного или вареного в воде, но жарь его (ягненка или козленка) на огне с головой, ногами и внутренностями».
Думали, что эти правила были вызваны известными гигиеническими понятиями, будто бы согласными с выводами современной науки.
Правда, что некоторые правила, как, например, запрещение есть недоваренное мясо, вполне подтверждается современным знанием.
Но большинство Моисеевых законов, как, например, запрещение крови, зайца, свинины и многого другого находится в полном противоречии с рациональной гигиеной.
Поэтому приготовление пищи по указаниям религии имеет исключительно исторический интерес.
Религии много занимались также и воспроизводительною деятельностью человека. Большинство основателей религии должны были сильно чувствовать разлад в этой области человеческой природы. Это приводило их к воздержанию, которому они следовали сами и которое проповедовали другим. Будда после молодости, в которой он испытал все радости, никогда не находя в них удовлетворения, перешел к полному воздержанию.
Он и его последователи, принявшие монашеское звание, должны были совершенно отказаться от женщины. Половое сближение, совершенное таким лицом, ставилось на одну доску с кражей и убийством и служило поводом для бесповоротного исключения из монашеского звания. Даже в буддийских правилах, относящихся к светским членам, запрещалось «предаваться внебрачным половым сношениям, потому что в них заключается нечто низменное».
Всем известно мнение христианской религии относительно воспроизводительной деятельности. Учителя христианства воздерживались от нее и учили тому же других. Св. Павел часто подтверждает свое воздержание: «Я желал бы, — говорит он, — чтобы все следовали моему примеру; но каждый получил от бога свой особенный дар, каждый по-своему. Поэтому я говорю неженатым и вдовам, что лучше им оставаться, как я: но если они не могут воздержаться, пусть вступают в брак, потому что это лучше, чем разжигаться».
У диких народов религия также сильно вмешивается в сферу воспроизводительной деятельности.
По этому поводу следует упомянуть об одном из самых своеобразных верований, встречаемых у туземцев Сандвичевых островов: это — поклонение божеству выкидышей. Божество это изображается в виде удлиненного деревянного инструмента, известного под именем Капо. Верхняя часть его имеет вид чудовищной головы божества, нижняя же удлинена и заострена. Ее вводят в матку для прободания зародышевых оболочек, чем и вызывается выкидыш.
Множество других идолов служат дикарям для предохранения от болезней. Бартельс описывает в своей книге о медицине первобытных народов целую коллекцию талисманов, служащих для этой цели.
Главная идея, вызвавшая производство этих амулетов, основана на том убеждении, что болезни — дело злых духов, которых следует по возможности отстранять.
Сибирские гольды делают соломенные изображения животных и деревянные чучела для внедрения в них злых гениев болезней. Гиляки делают деревянную человеческую куклу с изображением жабы на груди. Этот талисман употребляется как средство против болезней груди и живота.
Однако и в более развитых религиях встречаются остатки этих первобытных идей и обычаев. Еще Лютер признавал происхождение болезней сверхъестественным. «Вот,— говорит он, — в чем не может быть сомнения, — это в том, что чума, лихорадка и другие опасные болезни — не что иное, как дело рук дьявола».
Поэтому лучшим средством против всяких болезней считались разные религиозные церемонии.
Людская чума оставила многочисленные следы в истории человечества. Эта ужасная болезнь, естественно, должна была особенно обратить на себя внимание. Обыкновенно ее приписывали гневу божию и старались смягчить его всякими возлияниями и жертвоприношениями. На жертвенниках убивали людей, чтобы укротить божий гнев, а также уменьшить смертность от чумы.
Религиозные обряды значительно смягчились с развитием культуры, но от них еще и теперь остались следы, дающие себя чувствовать при всяком удобном случае.
Все согласно смотрят на эти обряды, как на остатки древних обычаев, и не придают им прежнего значения. Гигиена в пище и в предупреждении болезней по законам религии уступила место научной гигиене, основанной на точных данных, добытых путем опытного метода. Поэтому бесполезно настаивать здесь на этой стороне вопроса.
Итак, в области религии остается еще одна очень важная задача: смерть. Как было доказано, предложенные до сих пор решения этого вопроса неудовлетворительны. Предположение о загробной жизни не может быть сделано вероятным, несмотря на самые разнообразные попытки доказать ее. Противоположное же мнение вполне согласуется со всей совокупностью человеческого знания. С другой стороны, смирение, проповедуемое религиями и особенно учением Будды, не в состоянии удовлетворить человечество, которое жаждет жить и взирает с ужасом на неизбежность смерти.
Понятно, что при этих условиях мыслители старались другими средствами выйти из великой дилеммы. Поэтому и было создано множество философских теорий для решения задачи: жизнь — смерть.
Вопрос этот имеет первостепенный интерес, а потому я считаю нужным рассмотреть его в особой главе.
Попытки философских систем |
Некоторые философские системы тесно примыкают к религиям. — Идеи античных философов о бессмертии души. — Учение Платона. — Скептицизм Аристотеля. — Стоики: Цицерон, Сенека, Марк Аврелий. — Системы современных философов. — Пессимизм и его происхождение. — Байрон. — Учение Шопенгауэра и Гартманна. — Философия освобождения Майнлендера. — Критика пессимизма. — Макс Нордау. — Идеи современных мыслителей о смерти.
Философские системы тесно связаны с религиозными учениями.
Так, например, буддизм сначала был философской теорией и принял свой религиозный характер только в руках последователей Будды. Точно так же и многие философские учения — не что иное как религиозные догматы, которые старались основать на рациональных доводах, помимо откровения.
Идея о загробной жизни в течение долгого времени составляла одну из главных основ различных философских учений, цель которых была решить задачу смерти. Философы древности представляют нам многочисленные доказательства таких попыток. Платон, рассказывая трагическую историю смерти своего учителя Сократа, по этому поводу очень определенно высказывает общие им обоим мысли о смерти. Он влагает в уста Федона следующие слова: «Смерть друга далеко не огорчала меня, напротив, судьба его казалась мне достойной зависти при виде его отношения к смерти и ввиду его речей. Стойкость, обнаруженная им перед смертью, убеждала меня в том что он покидает жизнь не без помощи какого-нибудь божества, которое должно ввести его в другую жизнь и дать ему наибольшее блаженство, которым когда-либо обладал человек».
Платон приписывает Сократу очень определенное представление о возмездии. «Поистине, — говорит Сократ, — я был бы неправ, не сожалея о смерти, если бы я не ожидал найти в будущей жизни добрых и мудрых богов и людей, лучших, чем на земле. Но знайте, что я надеюсь быть присоединенным к справедливым людям». «Смерть не столь огорчает меня, потому что я надеюсь, что людей ждет нечто другое после этой жизни и что, согласно древнему изречению, добрым будет лучше, чем злым».
Так как здесь нет речи об истинах, открытых божественным авторитетом, то необходимо было доказать их рациональными доводами. И действительно, Платон всякими соображениями изощряется доказать нам бессмертие души. Он приводит пифагорейские идеи переселения душ и утверждает, что «души, любившие одну несправедливость, тиранию и хищничество, перейдут в тело волков, коршунов и ястребов. Да и куда же могут перейти такие души?» Что же касается душ «тех, которые всегда обнаруживали общественную и гражданскую добродетель, называемую умеренностью и справедливостью», то они войдут в тела мирных и кротких животных, как пчелы, осы и муравьи, или даже вернутся в человеческое тело, чтобы создать добродетельных людей».
В доказательство справедливости своих воззрений Платон приводит еще закон контрастов. Подобно тому, как сильнейшее вытекает из слабейшего, быстрейшее — из более медленного, так и из жизни должна возникнуть смерть, а из смерти — жизнь. «Поэтому-то, — говорит Сократ, — из умершего возникает все живущее и имеющее жизнь. А следовательно, души наши после смерти находятся в аду». Итак, «мы признаем, что живые так же происходят от мертвых, как и мертвые от живых; это служит неоспоримым доказательством того, что души мертвых существуют где-то, откуда возвращаются к жизни».
Такого рода доводами старается Платон доказать бессмертие души, составляющее основное начало его философии. Он влагает все это в уста своего учителя Сократа в день его смерти. В своих диалогах он старается ответить на всякие возражения. Но, несмотря на уверенность, с которой он утверждает свое учение, все же от времени до времени чувствуется скептическая нота, звучащая в его доводах; это-то и отличает философию от религии.
Очевидно, что вся система Платона создана для решения задачи смерти. Он неоднократно повторяет, что «настоящие философы всю жизнь свою готовятся к смерти; при этом было бы нелепым, если бы, неустанно стремясь к этой единственно» цели, они устранялись от нее и боялись, когда смерть настигнет их».
Платон главным образом старается убедить самого себя в существовании будущей жизни: «Я стремлюсь, — говорит он, — убедить в том, что скажу, не только присутствующих здесь, хотя, случись это, я был бы в восторге; но главная цель моя — убедить самого себя. Потому-то, милый друг, я рассуждаю следующим образом, и ты увидишь, что рассуждение это очень близко касается меня: если то, что я говорю, окажется правильным, то следует верить ему; если же после смерти нет ничего, то я все же буду иметь ту выгоду, что не был вам в тягость своими жалобами в течение того времени, которое мне остается пробыть с вами».
Сомнение, являющееся у Платона только в зачаточном состоянии, у некоторых других философов древности становится гораздо более выраженным. Сначала Аристотель допускал существование бессмертной части души рядом с частью смертной. Обе эти части сливались в начале земной жизни и разъединялись в конце ее.
Но Аристотель вскоре покинул эту теорию бессмертия личного сознания. Позднее он очень определенно высказался против платоновской идеи бессмертия души, что не мешало ему верить в нерушимость «деятельного разума», бессмертного духа, продолжающего жить после смерти.
Стоики еще далее развили подобное философское воззрение. Рядом с индивидуальной душой они допускают мировую душу, общее всеобъемлющее начало.
Цицерон, занятый задачей старости и смерти, также старается оправдать мысль о будущей жизни. «Я убежден, — говорит он, обращаясь к Сципиону и Лелию,— что ваши знаменитые отцы, оба драгоценные моему сердцу, в настоящее время полны жизни, той, которая одна достойна этого названия; потому что тело для нас — род темницы, в которой мы обязаны выполнить тяжкий долг, насылаемый на нас необходимостью». «Видя деятельность человеческого ума, эту громадную память, обширную предусмотрительность, множество искусств, наук, открытий, я убедился и глубоко уверен в том, что природа, снабженная такими свойствами, не может быть смертной. Душа в постоянном движении; это движение не сообщается ей никакой внешней силой; она сама служит источником его, и никогда ей не будет конца, потому что она не может отрешиться от себя самой. Кроме того, как простое вещество, без всякой посторонней примеси она неделима и, следовательно, неистребима». Такого рода доводами старается Цицерон доказать бессмертие души. «Вот почему,— добавляет он, — старость для меня не только лишена горести, но, напротив, полна прелести». Но, в конце концов он сам замечает недостаточность своих доказательств, и скептическая нота становится у него еще сильнее, чем у предшественников; он чувствует себя вынужденным сказать: «Если я ошибаюсь, веря в бессмертие души, то я люблю эту иллюзию и не хочу, чтобы она была отнята у меня, пока я жив. Если после смерти всякое чувство должно погаснуть во мне, как утверждают некоторые полуфилософы, тогда нечего бояться, чтобы после кончины моей они насмехались над моим заблуждением». С постепенным усилением скептицизма идея бессмертия души в своей наивной и простой форме сохраняется в одних только религиозных догматах. Философские системы более или менее освобождаются от нее, принимая взамен очень туманные пантеистические идеи. Сенека пытается еще отстоять положение о бессмертии души; но, видимо, он не в силах верить в него. Он приводит скорее поэтические, чем рациональные доводы. «Запоздания этой смертной жизни служат прелюдией лучшего и более прочного существования, — пишет он в одном из своих знаменитых писем. — Подобно тому как чрево, заключающее нас в течение девяти месяцев, не производит нас для вечного обитания в нем, а для мира, в который мы появляемся достаточно сильными для вдыхания воздуха и для перенесения внешних впечатлений, точно так же в течение времени, протекающего от детства до старости, мы созреваем для второго рождения. Новое начало, новый мир ждет нас. До тех пор мы только издали в состоянии выдержать небесное величие. Сумей же, о человек, без ужаса думать о своем решительном часе: он — последний час для тела, но не для души. Смотри на все окружающие тебя предметы, как на обстановку гостиницы; ты должен идти далее. День, которого ты боишься, как своего последнего дня, должен возродить тебя к вечности».
Но рядом с этими светлыми перспективами у Сенеки проскальзывают мрачные мысли. «Да, — говорит он, — все существующее должно погибнуть; небытие ждет все живущее». «Каждый день, каждый час открывают человеку его ничтожество; неизменно новый урок, даваемый ему жизнью, напоминает ему забываемую им немощность, и от вечности, к которой его уносит мечта, низводит к мысли о смерти.
Эти подъемы и понижения приводят к новому, все более и более определяющемуся воззрению; Сенека приходит к следующей формулировке своих взглядов на великий вопрос человеческого существования: «У всех существ есть предназначенные периоды; они должны родиться, расти и погибнуть. Светила, движущиеся над нами, земля, на которой мы рассеяны и которая кажется нам столь прочной, все это глухо подтачивается, все это конечно. Нет ничего, что не имело бы своей старости; хотя в различные сроки, одинаковый конец ждет все существующее. Все существующее кончит небытием; но мир не погибнет от этого — он растворится. Разложение для нас — разрушение. Действительно, мы имели в виду только ближайшее к нам; наша немощная душа, не умеющая отделять от себя от тела, не видит ничего за его пределами. Между тем мы переносили бы с гораздо большим мужеством мысль о своей кончине и кончине близких, если бы мы были убеждены, что природа — одна смена рождений и смертей, что сложные тела разлагаются, что разложившиеся тела вновь сливаются и что в этом бесконечном круговращении и проявляется могущество бога, умеряющего мир».
Заключением этого мировоззрения представляется такая ободряющая идея: «Великая душа должна уметь повиноваться богу и беспрекословно подчиняться мировому закону. Если она не покидает этой жизни для лучшей и для того, чтобы найти в небесах более блестящее и спокойное жилище, то по крайней мере без страданий она вернется к произведшему ее началу и сольется с общей массой».
Другими словами, за неимением загробной жизни, которую первобытные верования представляли себе довольно ясно и утешительно, философия не нашла ничего другого, как идею смирения перед неизбежными законами природы, и ограничилась обещанием туманного возврата к какому-то общему и бесконечному началу.
Идеи стоиков, особенно в форме, приданной им Сенекой, находят горячего и красноречивого сторонника в Марке Аврелии, «размышления» которого так известны и ценимы всеми.
Он часто касается в них задачи смерти, так же как и положения, которое человек должен принять относительно нее. Вот почему его «размышления» имеют для нас особенный интерес. «Смерть, — говорит Марк Аврелий, — так же как и рождение — тайна природы. Это одни и те же элементы, с одной стороны, соединяющиеся, с другой — разлагающиеся в одни и те же начала. В смерти нет ничего отталкивающего для разумного существа и для плана нашего строения». Эти мысли о смерти проникнуты неуверенностью. «Будь это рассеяние, или разложение на атомы, или уничтожение, это — или потухание, или перемещение». «Александр Македонский и его погонщик мулов после смерти свелись к одному и тому же: или они вернулись к одному и тому же общему мировому началу, или же оба они рассеялись в атомы».
Несмотря на свой резко выраженный деизм, Марк Аврелий очень нерешителен в вопросе о бессмертии души. «Если души не уничтожаются, — спрашивает он себя, — как с бесконечных веков вмещает их воздух?». «Помни, — говорит он в другом месте своих размышлений, — твое существо, этот слабый состав, должно когда-нибудь распасться; это слабое жизненное начало должно погаснуть или перейти в другую область и получить свое назначение в другом месте». Легко понять, что при такой неуверенности становится невозможным утешаться перспективой будущей жизни. Поэтому надо найти нечто другое взамен этого верования, так долго удовлетворявшего бедное человечество.
Марк Аврелий старается бороться со страхом смерти следующим размышлением: «Бояться смерти значит бояться или вовсе перестать чувствовать или чувствовать иначе. Но если ты лишен чувствования, то не будешь ощущать ничего дурного; если же ты будешь чувствовать иначе, то будешь другим существом и не перестанешь жить».
Но, чувствуя, вероятно, что такая аргументация слишком недоказательна, Марк Аврелий старается связать задачу смерти с общими началами человеческого поведения.
Как уже было упомянуто в первой главе, Марк Аврелий, подобно многим философам древности, высказывал мысль, что человек должен жить сообразно законам человеческой природы. Он развивает это положение во многих местах своих размышлений. «Смоковница делает то, что должна делать смоковница, собака — что присуще собаке, пчела — присущее пчеле и человек — присущее человеку». Еще определеннее высказывает он эту мысль в следующих выражениях: «Надо жить сообразно своей природе». «Никто не мешает тебе жить согласно закону природы, с тобой не случится ничего, противного общему мировому закону». «Пока рука выполняет деятельность руки, а нога — деятельность ноги, это не есть противоестественный труд для них. То же самое для человека: деятельность его не противоестественна, пока он выполняет только человеческую деятельность. А если она не противоестественна, то также и не вредна ему».
Проникнутый этим принципом, Марк Аверлий применяет его к смерти. Так как она — естественное явление, то ее надо принимать безропотно. Природа создала связь, и она же порвала ее. «Она порвала ее? Так простимся, как прощаемся, когда оставляем друзей, но, не раздирая своего сердца, не дожидаясь, чтобы нас увлекли силой. Это также одна из вещей, сообразных с природою». По Марку Аврелию, «философия состоит в том, чтобы ждать смерти со спокойствием и видеть в ней одно разложение элементов, из которых состоит каждое существо. Если сами элементы не ощущают никакого зла от своего вечного превращения одного в другого, зачем же с грустью смотреть на всеобщее изменение и разложение? Это сообразно природе. Ничто же не дурно, что сообразно с природой».
Так как смерть — явление, согласное с природой, то остается только преклониться перед нею. «Не презирай смерти, — говорит Марк Аврелий, — но принимай ее со смирением, как одно из явлений, свойственных природе. Что такое переход от детства к молодости, и старость, и рост, и зрелость человека? Что такое рост зубов, бороды и седых волос? Что такое зачатие, беременность, рождение и всякая другая деятельность природы, проявляющаяся в различные периоды жизни? Сила, которая обусловит наше разложение, ничем не отличается от всего этого. Поэтому свойство мудрого заключается в том, чтобы не обнаруживать относительно смерти ни страха, ни отвращения, ни презрения, но ждать ее как одну из функций природы».
Итак, от этой философии остается в конце концов одно — смирение. Со смертью надо примиряться, не только когда она приходит в конце продолжительной жизни, но и тогда, когда она настигает нас в какой бы то ни было момент существования. «Тот, кто умирает, достигнув последних пределов жизни,— говорит Марк Аврелий, — не имеет преимуществ перед преждевременно умирающим». «Безразлично, наблюдать ли окружающее в течение ста лет или трех».
В своем сочинении о Марке Аврелии Ренан сравнивает его философию смирения с нирваною буддистов. «Подобно Иисусу, Сакиа-Муни, Сократу, Франциску Ассизскому и трем или четырем другим мудрецам, Марк Аврелий одержал полную победу над смертью. Он мог с улыбкою смотреть на нее, потому что для него она утратила значение».
Но подобно тому, как идеи Будды превратились в религию, обещавшую бессмертие души, и подобно тому, как нирвана уступила место «западному раю» со всеми его наслаждениями, так и смиренный скептицизм античной философии должен был стушеваться перед христианством с его обещаниями будущей жизни и бессмертия.
Поэтому философия в течение веков тонула в волнах религиозных чувств и идей, и пришлось возобновлять сизифову работу для освобождения человеческого разума. Здесь нет надобности следить за этапами этого возрождения, тем более что они очень незначительны. В течение долгого времени философские системы изощрялись оправдать религиозные догматы отвлеченными аргументами, не прибегая к божественному откровению. При этом боги заменялись «субстанцией» или «субстанциями», а для решения тревожного и вечного вопроса смерти старались доказать бессмертие души.
Философы начала этого периода в истории человеческой мысли принимают главные религиозные догматы как неоспоримые начала. Платон думает, что бессмертие души есть сама собой разумеющаяся истина, не требующая доказательств. Он возражает против понятия о воскресении тела, но допускает переселение души.
Спиноза, хотя и не верил более в бессмертие души в обыкновенном смысле слова, но принимал аристотелевскую идею, по которой «человеческий разум не может быть вполне уничтожен вместе с плотью; от него остается нечто вечное». По его мнению, смерть — не что иное, как род вечной жизни в общении с абсолютным началом, возврат к единому и бессмертному веществу.
Философы напрягают все силы, изучая основы человеческого знания, для того чтобы найти начала, способные доказать действительность главных религиозных догматов. Несмотря на свой скептицизм, Кант старается доказать достоверность человеческого сознания и на нем обосновать уверенность в будущей жизни и в существовании бога.
Фихте преследует ту же цель, но он принужден признать, что «бессмертие нельзя объяснить естественными условиями» и что «оно сверхъестественно». Если «мы не в состоянии понять возможность вечной жизни, это не мешает ей быть возможной, потому что она находится сверх всего естественного».
Гегель приходит к пантеистическому воззрению и думает, что душа поглощается «абсолютным существом».
Эти идеалистические системы, доведенные до крайности, привели к значительной реакции и вызвали отрицание положений, основанных на одних простых умозаключениях. Их заменил догматический материализм, в свою очередь уступивший место скептическому позитивизму или, скорее, роду агностицизма.
При этих условиях ввиду невозможности поддержать идеи бессмертия души или будущей жизни в какой бы то ни было форме, философия смерти свелась к стоическому понятию о целесообразности и гармонии ее с законами природы и о необходимости принимать ее вполне безропотно. Вследствие этого последним словом человеческой мудрости стало всецелое и полное смирение.
Легко понять, что некоторые независимые и смелые умы не могли преклониться перед таким результатом и пытались найти другое решение великой задачи, занимающей человечество. Отсюда вытекает пессимизм — философское учение, имевшее столько сторонников в прошлом веке и царящее еще над многими современными умами.
Как вера в бессмертие души и идея смирения перед всеми бедами, угрожающими человечеству, так точно и пессимистическое мировоззрение имеет экзотическое происхождение. По всей вероятности, колыбелью его служит Индия. Уже браманизм отличается пессимистическим взглядом на жизнь человеческую; но та мысль, что все дурно в этом мире, была главным образом развита учением Будды. «Жизнь всегда — страдание; такова неисчерпаемая тема, которую неустанно преподносят нам буддистские сочинения то в виде философских рассуждений, то в поэтической форме изречений».
В Европе пессимистическое мировоззрение было введено лирическим поэтами, благодаря их столь развитой чувствительности. В. самом начале XIX века у Байрона звучит эта грустная нота: он очень определенно формулирует свою оценку жизни, как это показывают следующие строки: «Сочтите часы счастья, пережитые вами, сочтите дни, проведенные без страданий, и знайте, кто бы вы ни были, что еще лучше — не быть». Мысль эта еще определеннее в некоторых других стихах, — так, например в следующих: (Жизнь наша ложна по своей сущности. Она не находится в гармонии с миром, закон жестокий — она неизгладимо запятнана грехом. Безграничный этот Упас, это древо, от которого все блекнет! Земля — его корни, лист и ветви его — небеса, росою проливающие на человека болезнь, смерть, рабство — все видимое зло и, что хуже, невидимое, которое в душе неизлечимой, которое терзает сердце, страдания его возобновляя вечно).
В главе 6 мы видели, что страх смерти преследовал Байрона. Поэтому он хорошо понимал инстинктивный характер этого чувства. Но он, как и другие поэты-пессимисты (Леопарди), не облек своего мировоззрения в форму цельной системы. Пробел этот был пополнен философами.
В первой половине XIX века Шопенгауэр сделал попытку представить пессимистические идеи, заимствованные у индийских религий и у поэтов, в виде рационального философского построения. Он развивает мировоззрение, по которому «жизнь рассматривается как нечто, чему лучше было бы вовсе не быть», как род заблуждения, «от которого мы должны избавиться путем сознания его». По мнению Шопенгауэра, существование наше — ошибка и результат преступного желания; «если представить себе, насколько это возможно, множество бедствий, страданий и всякого рода мук, освещаемых Солнцем на своем пути, то станет понятным, что лучше бы ему производить на Земле так же мало жизненных явлений, как на Луне, и что лучше было бы, если бы поверхность первой, как и Луны, оставалась в кристаллизованном состоянии. На нашу жизнь можно смотреть, как на эпизод, напрасно смущающий спокойное блаженство небытия и имеющий характер громадного обмана».
Эта грустная картина бытия — результат космического процесса, создавшего столько бедствий и приведшего к роду человеческому для того, чтобы он мог достаточно почувствовать и оценить все зло этого мира. Низшие существа счастливее человека, потому что их ощущения менее развиты и они не сознают всей дурной стороны своего бытия. Человек оценивает удовольствие только как нечто отрицательное, в то время как страдание дает себя чувствовать вполне положительным образом. Свойственное человеку размышление делает страдание еще невыносимее для него. «Благодаря всему этому, ощущение страдания возрастает у человека быстрее, чем ощущение удовольствия, и увеличивается еще совершенно особенным образом благодаря реальному представлению смерти. Животное боится смерти только инстинктивно, не создавая себе о ней настоящего представления, не видя ее перед глазами, как человек, постоянно имеющий ее в виду».
Шопенгауэр убежден, что счастье не может составлять цели человеческой жизни. «Существует одно только пагубное заблуждение, — говорит он в своем главном сочинении, — это предположение, что мы здесь — для счастья» «Пока мы остаемся в этом заблуждении, увеличенном еще оптимистическими учениями, мир является нам полным противоречий. Было бы справедливее видеть цель нашей жизни в страданиях наших, а не в счастии. Все существование человека указывает, что страдание — его настоящий удел. Жизнь глубоко погружена в страдание и не может избавиться от него. Появление наше на свет сопровождается плачем; течение жизни в сущности всегда трагично и еще более — ее исход. Невозможно отрицать во всем этом печати предопределения. На смерть надо смотреть как на главную цель жизни: в момент ее прихода разрешается все, что подготовлялось в течение жизни».
Предвидение и ожидание смерти, как требующие содействия разума, возможны только для человека, но не для животных; «на одной только человеческой ступени способна воля отречься и отвернуться от жизни».
Где же средство для разрешения всех этих противоречий и для объяснения космического процесса, приводящего, с одной стороны, к смерти, а с другой — развивающего ум до предвидения и страха этого неизбежного конца? Есть ли это бессмертие души, т. е. решение, поддерживаемое не только почти всеми религиями, но также и многими философскими системами?
Шопенгауэр рассматривает на многих страницах этот вопрос. Он не сторонник ни воскресения тела, ни бессмертия сознательной души. «Подобно тому, как человек не имеет никакого воспоминания о существовании своем до рождения, точно так же и после смерти у него не может остаться никакого воспоминания о его настоящей жизни». «Тот, кто смотрит на рождение человека, как на настоящее начало его бытия, принужден смотреть на смерть, как на конечный его предел, потому что оба явления равнозначащи. Следовательно, никто не может считать себя бессмертным иначе, как если он считает себя неродившимся. По своей сущности и значению смерть то же, что и рождение. Это та же прямая линия, проведенная в двух направлениях. Если рождение действительно происходит из небытия, то и смерть должна быть настоящим уничтожением».
Итак, личного бессмертия не существует. Впрочем, по мнению Шопенгауэра, требовать этого бессмертия значило бы увековечивать заблуждение, потому что, в сущности, каждая индивидуальность представляет не что иное, как частную ошибку, ложный шаг, нечто такое, чему бы лучше вовсе не быть, и даже такое, освободиться от чего было бы истинной целью жизни».
Но если человек как личность смертен, «тем не менее, смерть не может взять более того, что было дано рождением, т.е. начала, благодаря которому последнее стало возможным». Сознание погибает со смертью, но причина, произведшая это сознание, остается; потухает «жизнь, но не жизненный принцип, обнаруживающийся в ней».
Что же это за вечный принцип? Это — идея вида или рода. Люди и собаки как индивидуумы вскоре погибают, но род людской или собачий, понятие о человеке или о собаке, остаются навсегда. Здесь Шопенгауэр возвращается к возражениям Спинозы, также отрицавшего бессмертие начала. По мнению Шопенгауэра, это вечное начало есть воля в ее наиболее общем и метафизическом смысле; наоборот, смертная душа — это разум, продукт мозговой деятельности.
Вечное жизненное начало есть нечто, совершенно неопределимое, потому что мы не можем перейти пределов сознания. Вот почему вопрос, в чем суть этого начала, не может быть решен.
Сам Шопенгауэр признает, что такое решение задачи не может успокоить тех, которые желают иметь уверенность в бессмертии души. «Но, — продолжает он, — все же это есть нечто, так что кто боится абсолютного уничтожения, не должен пренебрегать полною достоверностью вечного существования наиболее сокровенного принципа его жизни».
С другой стороны, не следует терять из виду, что природа заботится только о сохранении вида; личность для нее безразлична, мы же составляем частицу природы и, следовательно, должны бы разделять ее стремления. «Если бы мы хотели стать на более глубокую точку зрения, то должны были бы согласоваться с природой и смотреть на смерть и на жизнь, как на вещи вполне безразличные».
Шопенгауэр сам чувствует недостаточность своих воззрений и доводов. «Достигнув вершины своего учения», он признает, «что оно имеет отрицательный характер и приводит к отрицанию. Оно может говорить только о том, что отрицает и что должно быть отброшенным; но оно вынуждено признавать ничтожным все, что получается сверх этого. Оно может прибавить в утешение, что здесь идет дело об относительном, а не абсолютном небытии».
Конечною целью остается «отрицание воли жить, так как бедствия и страдания, — это настоящее назначение человеческой жизни — приводят нас к смирению».
Так как существование наше есть лишь ряд несчастий и так как, по Шопенгауэру, настоящая философия и приходит к этому выводу, то очевидно, что конец индивидуального существования, т.е. смерть, может быть только приятным. «В общем, смерть добродетельного человека обыкновенно спокойна и тиха. Но умирать свободно, с удовольствием и радостью есть привилегия человека смирившегося и отказавшегося от воли жить, потому что он хочет умереть действительно, а не только по виду, не испытывая потребности в переживании своей личности и не требуя его. Он охотно покидает известное нам существование. То, что заменяет его, с нашей точки зрения, есть ничто, потому что наша жизнь сравнительно с его жизнью есть тоже ничто. Буддистская вера называет результат, к которому приходит человек, решившийся отвергнуть волю жить, — нирваною, т.е. небытием».
На основании всей совокупности этого пессимистического учения Шопенгауэра можно было бы думать, что лучшим средством решить великую задачу жизни и смерти было бы «отречься от воли жить», покончив с жизнью самоубийством. Но не таково мнение философа. Он, конечно, не присоединяется к тем, которые считают самоубийство преступлением. Он думает только, что не в нем настоящее решение вопроса. «Самоубийца отрицает личность, но не вид. Самоубийство есть свободное уничтожение отдельного явления, но это нисколько не касается существа дела».
Будучи убежден, что самоубийство не есть настоящее решение вопроса, Шопенгауэр очень дорожил жизнью. Не веря более в бессмертие души, он довольствовался идеей вечности некоторого общего, но не сознательного принципа жизни, и думал, что смирение и стремление к небытию (к нирване, по его объяснению учения Будды) действительно могут утешить во всех бедах человеческого существования.
Долгое время идеи Шопенгауэра не встречали отклика в общем мнении мыслителей. Но позднее они распространились все более и более, и философский пессимизм вошел в моду.
Те, которые не принимали метафизических посылок философии Шопенгауэра, считали, однако, очень справедливыми его критику состояния человечества и его мнение о невозможности счастья.
Как раз через полвека после появления главного труда Шопенгауэра другой немецкий философ, Эдуард Гартманн попытался сделать новый шаг в том же направлении. Не принимая всей метафизики Шопенгауэра, он разделяет его мнение о невозможности считать счастье настоящею целью существования. В доказательство этого положения он рассматривает три стадии иллюзий, через которые прошло человечество.
На первой думали, что счастье может быть достигнуто в настоящей жизни. Но все считавшееся источником счастья: молодость, здоровье, утоление голода, супружеская и семейная любовь, жажда славы и т. д., приводило к полному разочарованию.
Особенно строго критикует Гартманн любовь в тесном смысле слова. Он не сомневается в том, что «любовь доставляет заинтересованным лицам гораздо более страданий, чем удовольствия». «Поэтому несомненно, что рассудок должен бы советовать полное воздержание от любви» и как средство для достижения этой цели — «уничтожение полового влечения, т.е. кастрацию, если последняя действительно устраняет половое влечение». По мнению Гартманна, с точки зрения личного счастия «это единственный возможный результат». Поэтому, только жертвуя этим счастьем, человек может решиться любить с целью сделать возможной эволюцию космического процесса.
Когда человечество убедилось в невозможности достичь счастья в этом мире, оно вообразило, что цель эта может быть достигнута после смерти, в загробной жизни. Но это было только второй стадией иллюзии, основанной на вере в будущую вечную жизнь.
Несомненно, «что индивидуальность органического тела, точно так же как и сознания, — одна видимость, исчезающая после смерти...», и нетрудно, следовательно, признать,— заключает Гартманн, — что надежда личного бессмертия души также не что иное как иллюзия. Этим самым подрывается главная основа обещаний религий, так как человек дорожит одним своим драгоценным я и нисколько не интересуется будущим благом, если не он сам его ощущает и им пользуется.
Разочаровавшись в возможности достичь счастья в настоящей и в будущей жизни, человечество бросилось в объятия третьей иллюзии.
Все же, убежденное, что цель его есть истинное счастье, оно предположило, будто достигнет его лишь в будущие времена космического процесса. Гипотеза эта основана на вере в прогрессивное мировое развитие.
Но и это — заблуждение. «Сколько бы человечество ни шло вперед, — говорит Гартманн, — никогда не удастся ему не только устранить, но даже уменьшить главные беды, его гнетущие: болезнь, старость, зависимость от воли и власти других, нищенство и недовольство. Сколько бы лекарств ни нашли против болезней, число последних, особенно столь мучительных хронических болезней, все же будет возрастать быстрее, чем успех медицины. Всегда веселая молодость будет составлять лишь частицу у человечества, в то время как остальная часть его будет охвачена угрюмою старостью».
Гартманн делает следующие возражения против идеи, будто счастье должно быть достигнуто по мере прогрессирования человечества: «Из всех народов самые довольные — наиболее грубые и первобытные; у культурных же — наименее образованные. Прочно установлено что с прогрессом народного образования увеличивается и его недовольство».
«С теоретической точки зрения научные успехи только мало или даже вовсе не способствуют счастью. С практической — они служат на пользу политики, социальной жизни, нравственности и техники». «Фабрики, пароходы, железные дороги и телеграфы еще не дали ничего положительного для счастья людского».
Гартманн несколько раз возвращается к тому выводу, что первобытные народы счастливее цивилизованных, что «бедные, нищие и грубые классы счастливее богатых, благородных и образованных, что глупцы счастливее умных и что вообще существо тем счастливее, чем его нервная система нечувствительнее, так как при этих условиях избыток страдания над удовольствием менее велик, а сохранение иллюзий значительнее. С прогрессивным же развитием человечества получается не только нарастание богатств и потребностей, но и увеличение чувствительности нервной системы и умственной культуры. Вследствие этого также обнаруживается излишек воспринятого страдания в сравнении с удовольствием и разрушение иллюзии, т.е. сознание жизненных бед, суетности большинства удовольствий и чувство страдания. Опыт показывает, что само страдание растет вместе с сознанием его. Итак, это столь часто провозглашенное увеличение общего блага, связанное с мировым прогрессом, основывается на совершенно поверхностном представлении».
Придя к такому пессимистическому заключению, т.е. к невозможности достижения счастья человечеством, Гартманн спрашивает себя, каково же настоящее назначение человека?
Гартманн не был бы философом, если бы не признавал, что мир создан по общему плану и что он следует правильному процессу развития и идет к определенной цели. «Мы видели, — говорит он, — что в существующем мире все организовано наимудрейшим и вообще наилучшим образом и что его надо считать наилучшим из всевозможных миров. Несмотря на это, положение вещей несравненно бедственнее и хуже, чем, если бы его не было».
Убедившись в обманчивости всех своих надежд, «человечество окончательно отказывается от какого бы то ни было положительного счастья и жаждет одного полного отсутствия страданий, небытия, нирваны. Но здесь уже идет дело не о стремлении, обнаруженном каким бы то ни было отдельным индивидуумом, но обо всем человечестве, жаждущем уничтожения небытия. Этот исход третьей и последней стадии иллюзии — единственный, который можно себе представить».
Какими же средствами можно было бы достигнуть такого результата? Гартманн не считает самоубийства лучшим средством против человеческих бедствий. В этом отношении он сходится с Шопенгауэром и думает, что такой конец ничего не изменил бы в общем ходе космического процесса. Задача не может быть также разрешена отречением от удовольствий, аскетизмом. Даже воздержание от воспроизведения себе подобных не привело бы ни к чему. «К чему бы послужило, — говорит Гартманн, — исчезновение человечества путем полового воздержания? Этот несчастный мир продолжал бы существовать и бессознательное не замедлило бы воспользоваться первым случаем для создания нового человека или аналогичного ему типа».
Итак, не исчезновение человечества составляет цель его, а «полное предоставление индивидуальности космическому процессу, дабы последний мог достичь своей цели — всеобщего мирового освобождения». При этих условиях жизненный инстинкт входит в свои права, так что временно приходится допустить единственной истиной «утверждение воли жить одним только полным примирением с жизнью и ее страданиями, а не трусливым отречением и уклонением от них, можно сколько-нибудь содействовать космическому процессу».
Предлагаемое Гартманном решение задачи человеческого существования вполне входит в разряд систем, проповедующих смирение. Не будучи в состоянии объяснить нам, в чем именно заключается космический процесс, которому человечество должно изо всех сил способствовать, Гартманн советует людям продолжать жить и размножаться, несмотря на убеждение в том, что счастье никогда не будет достигнуто, и требует настоящего отречения и полного смирения. Его решение кажется более определенным и дающим более ясную программу для человеческого поведения, чем предлагаемое Шопенгауэром стремление к покою нирваны. Но стоит ближе присмотреться, чтобы увидеть, что определенность эта только кажущаяся.
Легко понять, что при этих условиях критическая или отрицательная часть учений пессимистов привлекла многих сторонников. Наоборот, только немногие приняли идеи пессимистов в смысле разрешения жизненных затруднений и противоречий.
Немецкий философ Майнлендер, вполне разделяющий идеи Шопенгауэра относительно страданий человеческого существования, возражает против его мнения о смирении и нирване, как решения общей жизненной задачи. Майнлендер также охотно принимает установление Гартманном три периода иллюзий человечества, но он резко восстает против принятия воли жить с целью содействовать космическому процессу. «Как! — говорит он, — вы советуете предоставить себя общему мировому ходу и в то же время проповедуете: избери себе какую-нибудь карьеру, изучи какое-нибудь ремесло, зарабатывай деньги, богатство, славу, могущество, почести и т. д.; женись, рождай детей! Другими словами, вы собственноручно разрушаете единственную ценную сторону вашего труда — анализ иллюзий. Вы внезапно советуете тому, кто проник в смысл всех иллюзий, подчиняться им, точно иллюзия, с которой сорвано покрывало, — все еще иллюзия и может оказывать какое-нибудь воздействие!».
Вся задача совсем иначе представляется Майнлендеру. Убежденный, как и предшественники его, в суетности счастья, он совершенно своеобразно рисует себе космический процесс. Он думает, что неопределимое божество существовало до мира. Прежде чем исчезнуть, «оно дало начало Вселенной». Последняя стала средством для достижения полного небытия. «Мир, — говорит Майнлендер, — есть средство для цели небытия и даже единственное возможное средство для этой цели. Бог нашел, что ему возможно только через развитие реального мира... перейти от бытия к небытию». Во всяком случае Майнлендер считает совершенно достоверным, что «Вселенная движется в направлении небытия». Движение это характеризуется ослаблением суммы сил. Вследствие такого ослабления своей силы каждый индивидуум в своем развитии дойдет до такой ступени, когда его желание небытия сделается осуществимым. Жизнь на нашей планете следует считать ступенью по направлению к смерти.
Для того чтобы хорошо оценить все счастье смерти, необходимо достаточно изведать жизнь, и вот почему у всех животных так развито чувство самосохранения. Человек сначала проходит через ступень развития, на которой он похож на всякое другое животное: «Как у такового, воля жить у него стоит впереди воли умереть; жить ему хочется дьявольски, и в такой же степени ненавидит он смерть».
«Сначала, с одной стороны, преувеличивается страх смерти, а с другой — любовь к жизни. Страх смерти усиливается. Животное не знает смерти и боится ее только инстинктивно, замечая какую-нибудь опасность. Наоборот, человек хорошо знаком со смертью и понимает ее значение. Он отдает себе отчет в своей прошлой жизни и старается узнать, что предстоит ему в будущем. Таким образом, он замечает гораздо больше, даже без сравнения опасностей, чем животное».
В продолжение этого периода человек всячески избегает смерти и старается сделать свою жизнь как можно более счастливой и утонченной.
Но не это есть последняя фаза его развития. Мыслитель вскоре приходит к тому убеждению, что жажда жизни не составляет настоящей цели Вселенной. Она служит только средством для познания глубокой и конечной цели существования, которая заключается в прекращении жизни. Философ вскоре замечает, что настоящее счастье невозможно и что одна смерть желательна.
Подводя итог всему этому космическому процессу, мы приходим к следующему заключению: «все на свете представляет собою волю умереть: она только более или менее замаскирована, когда в органическом мире является в виде воли жить». В конце концов, однако, воля умереть все более и более обрисовывается, так что философ «во всей Вселенной видит одно глубочайшее желание полного уничтожения и ему чудится, будто он ясно слышит призыв, проникающий во все сферы небесные: Освобождение! Освобождение! Смерть нашей жизни! И утешительный ответ: Все вы найдете уничтожение и освобождение!».
Чтобы нагляднее показать ход этой эволюции, Майнлендер рисует душевное состояние того, кто приходит к воле умереть и кончает жизнь самоубийством. «Сначала он бросает тревожный взгляд на смерть и с ужасом отворачивается от нее. Затем он с трепетом вращается вокруг нее отдельными кругами. Но каждый день круги эти становятся уже и, в конце концов, он усталыми объятиями обнимает смерть и смотрит ей прямо в глаза: тогда обретает он покой, тихий покой».
Нелепо верить, будто после смерти ждет нас что бы то ни было, кроме полного уничтожения. Обыкновенный человек боится этой перспективы, «но главное в том, чтобы человек овладел Вселенной при помощи науки», и «мудрец прямо и радостно смотрит в глаза полному уничтожению».
«Исходя из воли жить Шопенгауэра, — говорит Майнлендер, — я пришел к воле умереть как к конечному заключению. Становясь на плечи Шопенгауэра, я поднялся до точки зрения, никем не достигнутой раньше меня». «В настоящее время я один; но за мной — все человечество, жаждущее освобождения и цепляющееся за меня; я вижу перед собою светлую и лучезарную зарю будущих времен».
Я остановился на этом изложении не вследствие прочности доводов Майнлендера, но исключительно ввиду того, что этот философ-пессимист оказался гораздо последовательнее всех своих предшественников. В то время как Шопенгауэр и Гартманн, несмотря на глубокое убеждение в отсутствии счастья и в громадном преобладании страдания при всевозможных условиях существования, все же продолжали жить, Майнлендер, верный своей теории, покончил самоубийством, едва достигнув 35 лет.
По всей вероятности, пример этот не единственный. Некоторые молодые люди, особенно недостаточно уравновешенные, под влиянием пессимистической философии, избирают путь, столь трагически намеченный Майнлендером. Иные лишают себя жизни, другие воздерживаются от содействия в размножении человечества. Наконец, третьи, и эти наиболее многочисленны, сокращают существование неразумным образом жизни в том убеждении, что жизнь не стоит того, чтобы быть сохраненной.
Талантливый современный писатель Метерлинк представляет собою отголосок царящего в современном поколении пессимистического взгляда на жизнь. «Очевидно, — говорит он, — что с известной точки зрения люди всегда будут, по-видимому, несчастными и всегда будут казаться, что они влекомы к неизбежной бездне; потому что они всегда будут обречены болезням, непостоянству вещества, старости и смерти» «Да, жизнь человеческая в общем довольно грустная вещь, и легче, скажу даже, почти приятнее говорить о ее печалях и выставлять их на свет, чем выискивать и выхваливать ее утешительные стороны. Печали многочисленны, видимы, неопровержимы, утешения же или скорее рассуждения, позволяющие нам с известной легкостью выносить удел жизни, кажутся редкими, неясными, скудными».
Хотя пессимистические идеи очень развились и распространились в течение XIX века, тем не менее не было недостатка и в голосах, восстававших против такого отрицательного мировоззрения. Приведем мнение немецкого поэта Роберта Гаммерлинга. Он укоряет философов-пессимистов в том, что они не имеют в виду оценки большинства человечества, желающего одного только: жить во что бы то ни стало и при каких бы то ни было условиях. Все доктринальные рассуждения бессильны против этого, так как, по Гаммерлингу, вопрос удовольствия и страдания — дело чувства, а не размышления. Между тем общее чувство вне сомнения: оно явно оптимистично.
Подобное же положение отстаивал хорошо известный публицист Макс Нордау. По его мнению, все в живой природе доказывает, что основа ее вполне оптимистична. «По правде сказать, — говорит он, — оптимизм, безграничный и неискоренимый оптимизм, составляет основное воззрение человека, инстинктивное чувство, свойственное ему при всяких условиях». Другие живые существа только подтверждают эту истину. «Природа, — по мнению Нордау, — всеми венчиками своих цветов и всеми голосами своих птиц трубит и провозглашает оптимизм». «Ни одно животное не ощущает мировой скорби, и предок наш — современник пещерного медведя, конечно, не был удручен мыслью о предназначении человечества».
В этих соображениях не принято во внимание то, что пессимизм вовсе не должен одинаково ощущаться и оцениваться всеми живыми существами. Птицы и другие жизнерадостные, т.е. оптимистические, животные не имеют никакого представления о неизбежной смерти. Наши пещерные предки также не подозревали ее. Если даже огромное большинство современного человечества оптимистично, то это, быть может, зависит от того, что оно погружено в одну из трех стадий иллюзий, о которых говорит Гартманн. Только иногда, когда развитие достигает высшей своей ступени, человек, убедившись в суетности всех своих надежд, приходит к пессимистическому мировоззрению.
Макс Нордау не хочет быть принятым за ученика мудрого Панглосса, утверждавшего, что мир наш — лучший из миров. Однако его доводы указывают на чрезмерный оптимизм. Он думает, что страдание необходимо для поддержания существования. «Без страдания, — говорит он, — жизнь наша едва ли могла продлиться более мгновения, потому что мы не умели бы отличить вредных влияний и остерегаться их». Нечувствительность к боли — такой дурной признак, что больные испытывают большую радость, когда вновь начинают чувствовать уколы иглы.
Это верно, тем не менее, болевая функция, конечно, дурно организовала у животных и у человека. Часто незначительные причины и ничтожные болезни, как, например, некоторые невралгии, вызывают нестерпимую боль. Такое физиологическое явление, как роды, большею частью сопровождается в высшей степени сильными болями, совершенно бесполезными в смысле «показателей опасности».
С другой стороны, иные в высшей степени серьезные болезни, как рак и воспаление почек, в продолжение долгого времени развиваются, не вызывая ни малейшего ощущения боли. Вследствие этого внимание больного привлекается только тогда, когда уже пропущено время для всякого лечения. То же можно сказать относительно сифилитических поражений, могущих грозить здоровью и жизни. Поражения эти не сопровождаются болезненными ощущениями, чем отличаются от простого шанкра, болезни сравнительно очень безобидной, однако вызывающей сильные боли.
Для выполнения той роли, которую приписывает ей Нордау, боль должна была бы обнаружиться во всех случаях опасности, не достигая, однако, степеней, столь часто нестерпимых.
Но из страданий, ощущаемых людьми, прошедшими все три стадии иллюзий, самые злейшие не те, которые вызываются физическими болями. Как было уже несколько раз упомянуто, наибольшее страдание доставляет противоречие между жизненным инстинктом и неизбежностью полного уничтожения. Сам Макс Нордау соглашается с тем, что «мысль о прекращении нашего сознания, об уничтожении нашего "я" — ужасна». И тем не менее он думает, что «мы так счастливо организованы, что с легким сердцем примиряемся с тем, что действительно вполне неизбежно, и не терзаемся этим». Но утверждение это не согласуется с хорошо установленными фактами, изложенными нами в 6-й главе. Наоборот, за немногими исключениями, человек неохотно мирится с перспективой смерти. Так бывает часто даже в тех случаях, когда он погружен еще в какую-нибудь степень иллюзии. Всего чаще человек, желающий жить, не только испытывает чувство отвращения к смерти, но она представляется ему чем-то совершенно противным нормальному ходу явлений.
Недостаточно сказать, что все люди, испытывающие это чувство, — психопаты или, что нелепо предполагать, будто человеческое счастье играет известную роль в мировом процессе. Наоборот, совершенно естественно, чтобы человек стремился к своему счастью и чтобы он старался разобрать механизм явлений, происходящих в нем и вокруг него, с точки зрения этого идеала. Вот почему несправедливо говорить, что «нельзя серьезно относиться к пессимистической философии». Она впервые представила настоящий обвинительный акт против человеческой природы. И если считать физическую боль очень полезной в качестве показателя опасности, то следует постольку же смотреть на пессимистическое мировоззрение, как на шаг вперед в человеческом развитии. Без него слишком легко было бы впасть в род самодовольного фатализма и пребывать в квиэтизме, подобном тому, который проповедуется некоторыми религиями.
Но, с другой стороны, легко понять, что мыслящее человечество не признает пессимизма последним словом человеческой мудрости и что философы разных направлений изощряются отыскать какое-нибудь возможное решение задачи жизни и смерти. Все философские системы без труда покинули веру в будущую жизнь и в личное бессмертие. Но они восприняли пантеистическую идею и допустили некое общее начало, которое должно поглотить индивидуальные сознания. Мнения относительно свойств этого начала разделились. Одни называют его идеей, другие — волей, силою или вечной силой (Герберт Спенсер). Названия не имеют здесь большого значения, так как это начало представляется совершенно туманным, и в сущности, о нем нет сколько-нибудь определенного понятия. Потому эта часть философских учений носит скорее лирический характер и сливается с поэзией в более тесном смысле.
Немецкие поэты очень способствовали популяризации пантеистических идей. Не говоря уже о Гете, часто высказывавшем суждения, по существу согласные с спинозизмом, Шиллер выражает свое мнение о цели жизни в следующих знаменитых, так часто приводимых стихах: («Ты дрожишь пред смертью? Ты желаешь бессмертия. Живи в целом! Когда тебя давно не будет — оно останется.»)
Рюккерт повторяет ту же мысль также в очень известных стихах: («Небытие пугает тебя, пока ты остаешься один. О! почувствуй свою связь с неразрушимым целым!»)
Можно было бы наполнить целый том описанием попыток мыслителей всех стран, старавшихся одеть эти лирические мысли в более философскую и менее туманную оболочку. Ограничимся указанием нескольких позднейших авторов.
Идеи Ренана об этом предмете могут служить связующим звеном между поэзией и философией. Говоря о бессмертии, он полагает, что мы возродимся в том следе, который оставляет каждый из нас "в недрах беспредельного".
Мысли, развиваемые Гюйо, также носят очень поэтический характер; как и многие другие, он не без протеста принимает перспективу неизбежности смерти. Ввиду такого конца он ощущает «не только огорчение, но и возмущение, чувство известной несправедливости природы». «Итак, — заключает он, — мы вправе восставать против убивающей природы, если она убивает то, что есть лучшего с нравственной стороны в нас самих и в ближнем».
Гюйо особенно во имя любви протестует против смерти «...смерть других, уничтожение тех, кого любишь, — вот чего не может допустить человек, творение, по существу своему мыслящее и любящее», — говорит он.
Эта крупная, столь трудно решаемая задача представляется ему следующим образом: «Две великие силы влекут ум человеческий в противоположные стороны в вопросе о личном бессмертии: наука во имя естественного развития склонна всюду жертвовать личностью; любовь во имя высшего развития нравственного и общественного хотела бы целиком сохранить ее. Это одно из самых тревожных противопоставлений, являющихся уму философа».
Гюйо надеется, что прогресс эволюции приведет как бы к слиянию индивидуальных сознаний в единое целое. «Если так, — говорит он, — то спрашивается: не настанет ли некогда день, когда проникшие друг в друга сознания сольются между собой и сообщат друг другу новое бытие?»
Предполагая это, он переносится «в ту проблематическую, хотя и не противоречащую разуму эпоху, когда сознания, достигшие все вместе высшей степени сложности и внутреннего единства, могли бы гораздо глубже проникать друг в друга, чем теперь, без того, чтобы какое бы то ни было из них исчезало вследствие этого проникновения».
По этой гипотезе «задача заключалась бы в том, чтобы быть одновременно достаточно любящим и любимым, чтобы жить и переживать в другом». «Следовало бы, чтобы как исчезающий, так и остающиеся так любили друг друга, чтобы тени, отбрасываемые ими в мировое сознание, сливались воедино». «Мы чувствовали бы тогда еще в этой жизни, что входим в бессмертие привязанностей» и «этим путем была бы найдена точка соприкосновения между смертью и бессмертием».
Гораздо менее поэтично решение, недавно предложенное Фино. По его мнению, смерть может огорчать нас, «если рассматривать ее только как отталкивающее небытие. Наоборот, признание ее видоизменением жизни устранит наш страх и почти заставит нас любить ее».
Но что же такое это видоизменение жизни, долженствующее привести к такому утешительному результату? Это «бессмертие плоти», т.е. жизнь существ, развивающихся на счет человеческого трупа. «Труд работников смерти начинается с мух», которые нарождают червеобразных личинок, кишащих в разлагающемся теле. То самое тление, которое так пугало Льва Толстого при мысли о смерти, для Фино становится утешительным символом. Он описывает последовательные фауны трупа и заключает: «Жизнь продолжается, таким образом, в могиле, жизнь шумная, вечно возобновляющееся оживление. Здесь любят, размножаются, живут, исчезают. Могильный покой не что иное, как обман, подобный тому, как и прах, в который тело наше будто бы должно обратиться».
Я привел этот пример, чтобы показать, до каких пределов может довести потребность в каком-нибудь решении задачи смерти и жажда какого-нибудь луча надежды против неизбежности этого конца. Очевидно, что представление о трупной фауне никогда не станет философской системой смерти. Мыслители, несомненно, предпочтут ему неопределенность. И действительно, большинство современных философов иначе рассматривает эту задачу.
Насколько могу судить, геттингенский ученый Мэйер-Бенфей в своих "статьях «Современная религия» в высшей степени точно и в то же время просто резюмировал настоящее положение задачи. Он говорит, что невозможно допустить бессмертие души. Личность должна погибнуть целиком и неизбежно. Но точно так же, как ни один атом нашей плоти не может исчезнуть, так и «ни единая сила души нашей не может пропасть». Чем жизнь наша была полнее, тем более явные следы оставляет наша деятельность. Это соединение «индивидуальных поступков с общей жизнью человечества и составляет настоящее бессмертие, настоящую нирвану». «Единственным возможным средством преодолеть боязнь смерти, ужас небытия, является приучение ума нашего к этим мыслям, воспитание его в этом направлении».
Мэйер-Бенфей разделяет мнение пессимистов, по которому счастье никоим образом не может считаться конечной целью человечества: в этом случае весь эволюционный процесс был бы одним лишь ложным шагом. Было бы целесообразнее остановиться перед сотворением рода человеческого, потому что животные, не сознавая неизбежности смерти, конечно, счастливее человека.
«Но так как мы уже прошли путь от животного к человеку, вступили на культурную стезю, и все это не по своей воле или в силу какой-нибудь случайности, а по врожденной необходимости нашей природы, то становится ясным, что цель, к которой мы идем, — иная. Нет сомнения в том, что цель эта — царство чистой и совершенной культуры».
Уже давно была высказана мысль, что целью человечества должен быть прогресс во всех своих проявлениях. Предложено было даже несколько формул для определения того, что такое настоящий прогресс, но до сих пор не удалось этого выполнить. Термин «культура» останется столь же неясным и общим до тех пор, пока не найдут чего-нибудь определенного, его выражающего и дающего ему конкретный смысл.
Бегло рассмотрев все философские системы, так упорно изощрявшиеся разрешить задачу индивидуальной смерти, мы приходим к тому выводу, что они большей частью отрицают будущую жизнь и бессмертие души. Наоборот, большинство их допускает какой-нибудь общий принцип, неопределенное, вечное начало, долженствующее поглотить в свое целое индивидуальность души. Чувствуя, что эти столь туманные мысли неспособны утешить бедное человечество, страшащееся уничтожения и смерти, философы неустанно проповедуют, насколько возможно, полное смирение. И Гюйо также, замечая, что учение его о бессмертии любви далеко не может успокоить людей, ожидающих от философов каких-нибудь слов утешения, в конце концов признает, что «так как нечего ожидать помощи перед неумолимым, ни сострадания к тому, что согласно с целым и с нашей собственной мыслью, то остается уместным одно смирение».
Согласно общепринятому мнению, быть философом — значит принимать вещи так, как они есть, не слишком восставая против действительности; и в самом деле, припев всех философских систем постоянно один и тот же: преклониться перед неизбежным, т.е. смириться перед перспективой уничтожения.
Чего может достигнуть наука |
Основы экспериментального метода. — Вмешательство религий в борьбу с болезнями. — Роль болезней в обвинительном акте пессимистических философских учений. — Успехи научной медицины в борьбе с болезнями. — Переворот в медицине и в хирургии, обусловленной открытиями Пастера. — Услуги, оказанные серотерапией в борьбе с заразными болезнями. — Бессилие науки в излечении чахотки и злокачественных опухолей. — Возражения против научного развития. — Ж. Ж. Руссо, Толстой и Брюнетьер. — Провозглашение банкротства науки. — Возврат к религии и к мистицизму.
Младшая ветвь познавательной деятельности — наука — приступила к решению некоторых великих задач, волнующих человечество.
Только спустя долгое время после установления распространившихся между людьми мировоззрений и философских систем древнего мира скептический ум решился поставить вопрос: соответствуют ли действительности эти продукты человеческого мышления? Мало-помалу вырос скептицизм и возникла борьба между установившимися учениями и доктринальным авторитетом, с одной стороны, и научными соображениями — с другой.
Системы, определявшие отношения человека к миру, и философия Аристотеля царили уже от 15-ти до 20-ти веков, когда стали высказывать сомнения относительно настоящей цены этих учений.
Бэкон Веруламский задался вопросом, отчего все системы его времени были так неясны и оказались бессильными в объяснении мировых явлений? Причина этого не в самой природе, так как последняя, несомненно, подчинена незыблемым законам, которые могут быть предметом точной науки; причина и не в ограниченности ума тех людей, которые взялись за решение этих задач. Настоящую причину неудачи следует искать в ложности или недостатках примененных методов. Чтобы помочь этому неудобству, Бэкон советует «обобщать медленно, переходя от частных фактов к выводам, только одной степенью обобщая их, и так далее, до тех пор пока можно будет дойти до общей формулы. Таким путем мы сможем установить не туманные и двусмысленные принципы, но ясные и точно определенные выводы, которые не будут опровергнуты самой природой».
Медленны и тяжелы были первые шаги науки, основанные на этом точном методе, который хотя и был давно предугадан, но впервые сформулирован Франциском Бэконом. Однако результаты более ранних форм познавательной деятельности еще слишком тяготели над умами для того, чтобы позволить им смело принять новый метод. Тем не менее прогресс совершился, и стало возможно приступить к сложным и трудным задачам, занимающим человечество.
Более чем за две тысячи лет до возникновения точной науки формулировал Будда главные недовольства рода человеческого. «Вот, о монахи, святая истина о страдании, — провозгласил он в своей проповеди в Бенаресе, — рождение есть страдание, старость — страдание, болезнь — страдание, смерть — страдание...» и т. д.
Медленно и постепенно, следуя от частного к общему, наука отважилась приступить только к наименее трудному из четырех, т.е. к болезни.
В буддийской легенде, приведенной в главе 6, вид больного «с ослабленными чувствами, тяжелым дыханием, высохшими членами, расстроенным и пораженным страданием желудком, — больного, выпачканного собственными испражнениями», вызвал у Будды следующее размышление: «Здоровье, следовательно, подобно игре сновидения! И страх смерти принимает такой ужасный вид! Какой же мудрец, увидав такие условия существования, мог бы еще думать о радости и удовольствии?» «Горе здоровью, разрушаемому всякими болезнями!» Когда Будда, молодым принцем, между прочим, просил у отца «всегда оставаться здоровым и чтобы его не настигла болезнь», король-отец отвечал ему: «Ты просишь невозможного, сын мой; в этом я бессилен».
С того времени все религии занимались лечением и предупреждением болезней. Причиной последних они обыкновенно считали влияние злых духов и гнев богов; как средства против них они предлагали жертвы, молитвы и все, что может успокоить божественный гнев. Даже и теперь, особенно у первобытных народов, подобная медицина еще в ходу. На острове Суматра, когда не удается остановить кровь из раны, приписывают эту неудачу влиянию злого духа (Полазиэк), сосущего рану и делающего ее неизлечимой. В Ниасе смотрят на кровотечение из носа у детей, как на наказание отца за убийство свиньи во время беременности жены. Для излечения необходимо принести жертву божеству.
Надо сознаться, что рядом с такими предрассудками между религиозными правилами первобытных народов встречаются и некоторые полезные указания, основанные на верных наблюдениях или даже на опытах. В народе на больных испытывают разные средства, большинство которых скорее вредны; но попутно нападают иногда и на очень действительные лекарства. Поэтому народная медицина имеет несомненные достоинства, но ее даже отдаленно нельзя сравнить с научной медициной, основанной на наблюдении и на строгом опыте.
Научная медицина развивалась очень медленно, но в настоящее время она достигла такой ступени, что человечество может гордиться ею. Для преследуемой нами цели бесполезно настаивать на этом вопросе; однако я считаю нужным представить читателю некоторые факты, способные уяснить ему настоящее положение медицины.
Несомненно, что в пессимистическом мировоззрении большую роль играл страх болезней. На это указывают не одни приведенные нами слова Будды, но и изучение пессимистических философских систем. В 6-й главе было уже упомянуто, что Шопенгауэр из страха холеры в 1831 г. бежал из Берлина во Франкфурт. В обвинении, направленном против устройства Вселенной, одним из главных доводов Шопенгауэра в пользу того, что мир этот — «наихудший из всевозможных миров», служит факт распространения эпидемических болезней. «Такое ничтожное изменение атмосферы, которое невозможно даже обнаружить химическим анализом, вызывает холеру, желтую лихорадку, черную смерть и т. д., — болезни, уносящие миллионы людей; немного большее изменение могло бы погасить всякую жизнь».
Главный приверженец пессимизма Шопенгауэра Гартманн также высказывает очень мрачные мысли о болезнях и о медицине. Он убежден, что несмотря на все успехи, которые могут быть достигнуты человечеством, ему никогда не удастся не только избавиться от болезней, даже уменьшить их число. «Сколько бы, — продолжает он, — ни нашли средств против болезней, все же они, особенно хронические и неопасные, но очень мучительные заболевания, будут развиваться быстрее медицины».
Если бы основатели пессимистической философии по всем пунктам своего учения ошибались настолько же, как они ошибаются относительно болезней и медицины, то человечество могло бы счесть себя очень счастливым. Стоит сравнить мнение Шопенгауэра о больших эпидемиях с настоящим положением научной медицины, чтобы отдать себе отчет об огромных успехах, достигнутых последней. Утверждая, что повальные болезни происходят от слабых изменений в химическом составе воздуха, Шопенгауэр, очевидно, отражал мнение врачей своего времени. Экспериментальная наука вполне опровергла их. Неоспоримо установлено, что две крупные заразы, приведенные пессимистическим философом, а именно холера и чума, не имеют ничего общего с химическим составом воздуха; они зависят от двух микробов, природа и признаки которых известны с такой же точностью, как и признаки какого-либо растения. Холера вызывается открытым Кохом вибрионом, микроскопическим организмом, живущим в воде и переходящим в человеческий кишечный канал вместе с твердой пищей и питьем. До сих пор не найдено верного средства против холеры, но известны способы помешать ей развиться. Всего проще — кипятить всякую пищу и избегать всякого соприкосновения с испражнениями, водой и другими носителями холерного коховского вибриона. К тому же в некоторых случаях можно употреблять сыворотки, способные предупреждать холеру.
Если бы в 1831 г. медицина уже обладала этими сведениями относительно холеры, то философия могла бы принять совсем иное направление. Вместо того чтобы дрожать перед бедствием и бежать во Франкфурт, Шопенгауэр мог бы спокойно продолжать жить в Берлине, а Гегель не перестал бы преподавать свою идеалистическую философию в университете того же города.
Второй аргумент знаменитого пессимиста — желтая лихорадка — уже потеряла свое устрашающее значение. В прежние времена болезнь эта была так распространена, что в некоторых тропических странах останавливала успехи колонизации; теперь же с нею борются вполне успешно.
Шопенгауэр подтверждает свое положение примером «черной смерти», способной убить миллионы людей. Бесспорно, что болезнь эта, которая есть не что иное, как человеческая чума, произвела огромные опустошения и в XIV веке унесла почти треть всего населения Европы. В то время не сомневались в том, что обязаны ей божественному гневу, и собирались в церквах для общих молитв об ее отвращении. Приносили жертвы и бичевали себя в надежде избегнуть ужасной болезни. Путешественники, посещающие Вену, видят на одной из главнейших улиц (Грабен) грубый и некрасивый памятник XVII века, воздвигнутый в память божественного вмешательства против одной из сильных чумных эпидемий.
Теперь, когда наука установила настоящую причину чумы, мы имеем совершенно иные идеи о происхождении и исчезновении этой болезни. Она не есть проявление злобы какого-нибудь божества, а просто губительное заболевание, которое зависит от распространения маленького микроба, открытого одновременно Китазато и Иерсеном в 1894 г. Все признаки этой «чумной палочки» изучены и установлено, что она вызывает эпидемию среди окружающих человека грызунов, особенно среди крыс и мышей. Эти-то животные и сообщают человеку чумную заразу, поэтому чрезвычайно важно истреблять их всеми средствами. Чума, несомненно, прекращается, когда она уничтожит грызунов, так должно было случиться и в Вене в XVII веке.
Чума, бывшая прежде самой опасной из повальных болезней, теперь сошла в разряд тех бедствий, борьба с которыми сравнительно легка. Приходится только уничтожать крыс и мышей и остерегаться предметов, которые могли бы содержать чумный микроб. С пользою можно также употреблять в некоторых случаях предохранительные прививки или противочумную сыворотку; последняя действительна не только как предохранительная мера, но также и как средство против проявившейся уже чумы, если она еще не слишком затянулась. Итак, опасность, о которой говорит Шопенгауэр в виде предположения, есть окончательно избегнутое зло именно благодаря успехам экспериментальной науки. Если в некоторых странах, как, например, в английской Индии, чума еще и производит сильные опустошения, то это зависит от непросвещенности населения. Вместо того, чтобы принять научные меры, туземцы большею частью следуют правилам, установленным браминской религией. Они понимают чистоту не в медицинском и бактериологическом смысле, а в религиозном. Не удивительно, что при этих условиях чума не прекращается в Индии. Тем не менее трудно найти более доказательный пример благодеяния точной науки.
Предположение Гартманна относительно прогрессивного развития болезней не основано ни на каких точных данных. Оно противоречит множеству хорошо установленных фактов; совершенно обратно, — с успехом гигиены и с популяризацией ее правил болезни становятся менее частыми и губительными.
Сильный подъем вызвало применение в медицине и хирургии основных положений, добытых Пастером относительно брожений; знаменитый ученый показал, что эти разложения органических веществ зависят от вмешательства очень распространенных вокруг человека микроскопических организмов.
Открытие это сначала было применено в хирургии. Английский хирург Листер показал, что нагноение ран зависит от наводнения их микробами. Руководствуясь этой истиной, он успел с помощью перевязок предохранить раны от всякого загрязнения, и он заметил сразу чрезвычайное уменьшение числа послеоперационных болезней. Со времени открытия анестезирующих средств, как эфир, хлороформ, кокаин, и со времени перевязок, защищающих раны от микробов, хирургия развилась удивительно быстро. Уже не говоря о многочисленных и трудных операциях в брюшной полости, теперь с успехом отваживаются оперировать даже в самом сердце.
Ничто так хорошо не позволяет судить об успехах современной хирургии в лечении ран, вызванных огнестрельным оружием, как сравнение смертности раненых во время войн в XIX веке. В крымской кампании среди английских войск смертность эта достигла 15,21%; в 1859—1860 гг. среди французских войск в Италии она достигала 17,36%; среди немецких войск в 1870—1871 гг., соответствующих началу применения антисептии в хирургии, она понизилась до 11,07%, в то время как в испанско-американской войне 1898 г., т.е. в блестящий период научных методов, от ран умерло всего 6,64%1. В трансваальской войне смертность от ран достигла половины той, которая наблюдалась в 1870—1871 гг.
Новые медицинские учения, основанные на открытии ферментов и заразных вирусов, настолько изменили теорию и практику акушерства, что родильная горячка, бывшая прежде одним из бичей человечества, свелась к сравнительно ничтожным размерам.
Слепота новорожденных, делавшая все существование в высшей степени несчастным, можно сказать, вполне устранена благодаря предупредительным мерам, мешающим ребенку во время рождения заразиться от матери. Этот успех осуществился благодаря методу, предложенному немецким врачом Кре-де. Способ его состоит в употреблении антисептического средства (ляписа), одна капля которого, впущенная под веки новорожденного, мешает развитию глазной бленнорагии.
Воспаление червеообразного отростка, столь распространенная болезнь, о которой мы говорили в главе 4, как об одном из лучших примеров дисгармонии человеческой природы, находит сильный отпор со стороны научной медицины. В некоторых случаях хирургическое вмешательство окончательно избавляет от аппендицита. В других случаях совершенно достаточно одного применения лекарственных средств для излечения и предотвращения операции.
Долгое время слишком скептические умы утверждали, что одни болезни, доступные хирургии, действительно могут быть побеждены лечением, основанным на микробиологии. Но Пас-тер не замедлил доказать всю неточность этого утверждения. В сотрудничестве с Шамберланом и Ру он открыл способ предотвращать некоторые инфекционные болезни посредством ослабленных микробов. Ему удалось также предохранить животных и человека, укушенных бешеными животными, от бешенства — этой неизбежно смертельной болезни, одной из самых ужасных, которые только существуют.
Медицинская наука очень быстро развилась в этом новом направлении и осуществила целый ряд замечательнейших открытий. Из последних следует упомянуть открытие лечебного свойства кровяной сыворотки животных, которым привили некоторые микробы или их растворимые продукты. Фон-Беринг в сотрудничестве с японским ученым Китазато показал, что такой серум, приготовленный помощью яда дифтеритного микроба (яда, открытого Ру в сотрудничестве с Иерсеном), в состоянии не только предохранять здоровых людей от дифтерита, но даже вылечивать от этой болезни уже заболевших. Только в случаях, когда дифтерит слишком затянулся, серум оказывается не в состоянии его излечить.
Противодифтеритная сыворотка, вошедшая в употребление уже более 14 лет назад, выдержала всякие испытания и окончательно обнаружила свое предохранительное и лечебное свойство. Если еще бывают случаи смерти от дифтерита, то это всего чаще объясняется слишком поздним или недостаточным лечением.
Применение противодефтеритного серума свело смертность от дифтерита с 50 и даже 60% до 12—14%. Если вычислить, сколько детей спасено этим способом, то число их оказалось бы поистине поразительным.
Открытие столь благодетельной серотерапии было применено к нескольким другим болезням и не замедлило дать самые поощрительные результаты. После дифтерита открытие специфических сывороток оказало всего более услуг при столбняке, дизентерии и воспалении спинномозговых оболочек.
Противостолбняковая сыворотка, бессильная излечить уже появившийся столбняк, оказывает неоценимую услугу в предохранении от этой ужасной болезни.
Во время нынешней чудовищной мировой войны было много случаев столбняка среди военных, раны которых были загрязнены землей или навозом. Но стоило ввести предохранительные прививки для всех раненых вообще, — и число случаев заболевания столбняком сразу понизилось в поразительных размерах. Очень распространенный в начале войны, впоследствии столбняк стал крайне редким.
Та же сыворотка оказала большие услуги при кастрации лошадей, очень часто заболевавших раньше столбняком вследствие этой операции.
Специфический серум также оказался весьма действительным при лечении дизентерии, вызываемой маленькой бациллой.
Воспаление спинномозговых оболочек, распространенное среди войск, сократилось в значительной степени благодаря лечению специфической сывороткой.
Научная медицина за последние годы сделала большие успехи в применении химических лекарственных средств.
Успешному развитию химиотерапии человечество главным образом обязано недавно умершему немецкому ученому Павлу Эрлиху. Он открыл лучшее средство против сифилиса — одной из наибольших язв человеческого рода.
Если сальварсан, или «606» Эрлиха, и не вполне оправдал все возлагаемые на него надежды, тем не менее несомненно, что средство это оказывает очень большие услуги в борьбе с «аварией».
То же лекарство поразительно хорошо действует и при тропической болезни пиан, весьма близкой к сифилису.
В голландской Гвиане оказалось возможным закрыть больницу, предназначенную для заболевших пианом, благодаря тому, что применение мышьяковистого бензола пресекло эту ужасную болезнь.
Возвратный тиф, как сифилис и пиан, вызываемый микробом из группы спирилл или спирохет, излечивается тем же средством.
Можно смело предсказать, что эта болезнь, точно так же как и пиан, в более или менее отдаленном будущем исчезнет с лица земли.
Труднее будет борьба с «аварией», несмотря на то, что несколько предохранительных средств, производных от мышьяка и ртути, — оказались действительными против этой болезни. Но профилактическое употребление их наталкивается на такую небрежность публики и недоброжелательство со стороны материально заинтересованных лиц, что пройдет еще много времени, прежде чем можно будет окончательно восторжествовать над этой болезнью.
Тем не менее будущность медицины заключается гораздо больше в предупреждении болезней, чем в лечении их, когда они уже начали поражать организм.
Поэтому изучение причины большинства человеческих болезней должно оказать очень большие услуги в борьбе с ними.
Таким образом, стоило доказать, что сыпной тиф переносим вшами, чтобы уничтожением этих насекомых можно было прекратить эпидемию, как это было осуществлено в Тунисе Шар-лом Николем.
Другим примером успеха предохранительных мер против заразных болезней служит исчезновение малярии (болотных лихорадок) в некоторых местностях, где производили систематическое уничтожение комаров рода anopheles, сообщающего человеку паразит Лаверана (Plasmodium malariae).
Благодаря этому методу удалось колонизовать прежде необитаемые страны. Всего четверть века как медицина вступила в новую фазу, и уже заняла место рядом с другими точными науками, основанными на экспериментальном методе. Не удивительно, что в такой короткий период времени она еще не успела разрешить всех задач, поставленных ей, страждущим человечеством. Это несовершенство не преминуло вызвать строгие возражения.
«Как! — восклицают, — вы утверждаете, значительность успехов медицинской науки, в то время как должны признать ее бессилие в излечении чахотки — этой самой распространенной болезни, которая одна убивает одну шестую всего человечества!» Правда, что заразительность этой болезни была установлена Вилльмэном почти 50 лет тому назад. Более 20 лег прошло со знаменитого открытия Кохом микроба, вызывающего легочную чахотку и все другие виды туберкулеза. И тем не менее ни одно лекарство не в состоянии еще устранить этой болезни. Во всех микробиологических институтах и лабораториях ищут каких-нибудь предохранительных прививок, серумов или лекарств, излечивающих туберкулез, — болезнь, которую исцеляет в таком большом количестве случаев сама бессознательная природа. Однако результаты эти еще очень далеки от цели.
Итак, мы имеем здесь хороший пример, доказывающий бессилие науки. Однако при ближайшем рассмотрении вопроса легко показать, что даже с уже приобретенными данными можно было бы бороться с туберкулезом гораздо успешнее, чем это было сделано до сих пор. После обнаружения заразительности туберкулеза, даже не ожидая открытия Коха, можно и должно было употребить всевозможные меры для уничтожения веществ, заключающих заразный вирус, т.е. прежде всего мокроты чахоточных и молока туберкулезных коров. Несмотря на все, что было говорено до сих пор по этому поводу, мы постоянно видим, как плюют на пол вагонов и публичных мест. Чахотка распространяется вовсе не вследствие несовершенства науки, а вследствие невежества и беспечности населения. Для того чтобы сократить как эту, так и многие другие болезни, подобные тифу, холере и дизентерии, достаточно было бы только сообразоваться с правилами научной гигиены, не ожидая открытия специфических средств.
Несмотря на то, что до сих пор еще не найдено верного средства против туберкулеза, наука уже сделала шаг вперед по пути к отысканию его. Еще несколько лет назад казалось, что все попытки предохранительных прививок против этой болезни бесцельны. Между тем опыты Беринга, подтвержденные Нейфельдом в институте Коха в Берлине, а также и другими учеными, показали возможность таких прививок по отношению к телятам. Хотя пока предупреждение и лечение туберкулеза еще и не достигли желанной цели, однако мы имеем право надеяться, что в будущем борьба с этой ужасной болезнью значительно усовершенствуется.
Но если современная наука уже и значительно вооружена для борьбы против болезней, признанных заразными, то того же нельзя сказать относительно некоторых других болезней; между ними первое место занимают злокачественные или раковые опухоли в самом общем смысле слова.
Мало таких ужасных болезней, как эти опухоли; они никогда не излечиваются самостоятельно и могут быть удалены с надеждой на прочный успех только в том случае, когда распознаны достаточно рано. Поэтому от них ежегодно погибает множество молодых и старых людей. Очень вероятно даже, что рак становится распространеннее прежнего, что объясняли удлинением продолжительности жизни в настоящее время. Так как раковые опухоли всего более распространены у стариков, то большая долговечность могла бы уже сама по себе обусловить большее количество злокачественных новообразований. Однако, даже помимо этого обстоятельства, число случаев рака все более и более увеличивается.
Злокачественные опухоли являются, несомненно, самой безотрадной болезнью для медицины и хирургии. Их в этом отношении окружает еще большая тьма, чем та, которая царила вокруг заразных болезней до открытий болезнетворных микробов. В эпоху, когда не были еще знакомы с этими заразными живыми существами, уже имели понятие о вирусах, т.е. веществах, которые, будучи привитыми, могли воспроизвести болезнь. Так, уже знали оспенный яд и умели даже с его помощью предупреждать серьезное заболевание оспой. Почти за век до открытия Пастера найден был другой вирус — яд коровьей оспы, служащий отличным предохранительным средством против оспы. Эта великая услуга человечеству была оказана Дженнером.
Опыты над раком у крысы и у мыши указывают на то, что опухоли эти прививаются, как заразные болезни. Ганау показал это относительно известного рода эпителиомы у старых крыс; Моро удалось воспроизвести рак у белых мышей; результат этот был подтвержден Иенсеном и в институте Пастера Боррелем.
Линьер сообщил мне, что большая часть белых мышей в его лаборатории в Буэнос-Айресе гибнет от рака, который в Аргентинской республике очень часто встречается и у людей. Этот эпидемический характер болезни очень сильно говорит в пользу ее инфекционного характера.
Тот же факт вытекает и из исследования распространения злокачественных опухолей у человека. Есть местности, где рак встречается очень часто, и другие, где он чрезвычайно редок. Злокачественные опухоли связаны с местными условиями, вследствие чего можно думать, что заразное начало их переносится из почвы при помощи сырых пищевых продуктов. Ввиду этого одним из предохранительных средств может быть рекомендовано употребление лишь предварительно проваренной или прожаренной пищи. Хотя, помимо наивозможно более раннего хирургического вмешательства, все попытки излечения злокачественных опухолей не дали достаточно удовлетворительных результатов, тем не менее в последнее время были сделаны большие успехи в ознакомлении с причиной этих опухолей.
Так, в Америке Рус открыл микроб, вызывающий злокачественную саркому у кур.
Датскому ветеринару Фибигеру удалось получить настоящий рак желудка у крыс, которых он кормил тараканами, зараженными внутренностными червями из группы нематод.
Этих двух примеров достаточно, несмотря на все возражения против них, для того, чтобы показать, что злокачественные опухоли относятся к заразным болезням, до известной степени сравнимых с туберкулезом и его разновидностями (актиномикозом, спиротрихозом, а также и сифилисом).
Установление инфекционной природы злокачественных опухолей должно руководить нами в борьбе с ними. Тот факт, что эти опухоли редко возникают в дыхательных путях, а, напротив, появляются всего чаще в пищеварительных, в женских половых органах, так близко расположенных возле первых, и на коже — указывает на то, что мы должны обращать особое внимание на пищевую гигиену и на чистоту нашего тела.
По наблюдению хирургов, кожные раки становятся реже с развитием чистоплотности и встречаются главным образом у неопрятных людей.
Весьма возможно, что чистота кишок, т.е. воздержание от сырой пищи, в значительной степени устранит рак внутренних органов.
Берлинский врач Боас настаивает на том, что очень значительное число больных раком обращается к врачу только в слишком позднем периоде болезни. Так, в 80% встретившихся ему случаев рака прямой кишки больные являлись в таком состоянии, когда операция была уже немыслима. Поэтому Боас советует при помощи популярных статей обратить всеобщее внимание на первые признаки раковых заболеваний. Он думает, что благодаря такой мере во многих случаях рак можно будет оперировать вовремя для обеспечения выздоравливания.
Хотя надежда на окончательное излечение рака рентгеновскими лучами не вполне оправдалась, тем не менее выяснилось окончательно, что на поверхностные раки кожи эти лучи оказывают, несомненно, лечебное действие. Другие способы лечения в виде применения различных сывороток экстрактов бактериальных культур, пищеварительных ферментов (трипсина) и пр. до сих пор не дали удовлетворительных разультатов. Усилия врачей направлены особенно на возможно раннее распознавание злокачественных опухолей для их немедленного удаления хирургическими средствами.
За последнее время особенно выдвинулись способы смешанного лечения злокачественных опухолей, причем рядом с оперативным вмешательством прибегают к лучам, химическим препаратам (радий, торий, мышьяк, холил и тр.) и физическим деятелям, каковы электричество и теплота. Уже теперь, по мнению Черни2 — самого опытного хирурга в деле лечения рака, излечивается окончательно до 80% рака лица и до 40% рака грудной железы. Черни «убежден», что при наличности достаточных материальных средств «вопрос о раке будет окончательно разрешен лет через 50, когда число больных раком сможет быть уменьшено наполовину». Я надеюсь, что даже раньше человечеству удастся справиться с этим бедствием.
Несмотря на замечательные успехи современной медицины, существует еще много неразрешенных задач.
Неизвестна причина множества болезней, удручающих человечество; между ними — скарлатина, корь, глаукома и несколько других глазных болезней, диабет, печеночные и почечные колики, ревматизм, подагра и т. д.
Несостоятельность медицины в борьбе со многими из них, несомненно, крайне прискорбна. Но убеждение в том, что медицинская наука на верном пути и что со временем большинство указанных задач будет разрешено к благу человечества,— должно поддерживать надежду на конечную победу.
Предупреждение и лечение болезней, так долго находившиеся в ведении религии, все более и более переходит в руки людей, занимающихся научной медициной. Остаются только еще несколько нервных болезней, которые могут быть излечены внушением; в успешности такого излечения играют более или менее значительную роль вера вообще и религия в частности.
Я не счел нужным долго останавливаться на преобладающем значении науки в борьбе человечества с болезнями; это слишком очевидно и ясно; всем пришлось признать этот факт, и даже самые страстные противники науки должны были преклониться перед ним.
Но тогда задачу стали формулировать иначе и пришли к такой постановке ее: конечно, наука может облегчить человечество в той или другой болезни. Но не в этом вопрос: болезнь — не более, как эпизод человеческой жизни, великие задачи которой остаются неразрешенными наукой. Недостаточно вылечить человека от дифтерита или от перемежающейся лихорадки. Надо сказать ему, в чем его назначение и почему ему приходится стареть и умирать в то время, когда всего более хочется жить. Вот здесь-то и обнаруживается бессилие всякой науки и начинается благодетельная роль религии и философии. А так как наука постоянно возбуждает сомнения и критикует философские системы, то, вместо того чтобы быть полезной человечеству, она только вредит ему.
Давно возникли нападки на науку. Ж. Ж. Руссо обязан своей известностью тому таланту и страстности, с которыми он вел эту борьбу. С поразительной силой и красноречием защищает он свое положение, как можно судить по следующим выпискам: «Народы, — говорит он, — узнайте, наконец, что природа хотела предохранить вас от науки, как мать, вырывающая опасное оружие из рук своего ребенка, что все тайны, которые она скрывает от вас, не что иное, как страдания, от которых она защищает вас, и что трудности, сопутствующие образованию, — одно из немалых ее благодеяний. Люди извращены, они были бы еще хуже, если бы имели несчастие родиться учеными» (стр. 469). «Если науки наши суетны по преследуемой ими цели, то еще опаснее они по вызываемым результатам. Возникнув от праздности, они в свою очередь поддерживают ее... Ответьте же мне, знаменитые философы, вы, научившие нас взаимному притяжению тел в пространстве, отношениям путей, одновременно проходимых планетами при своем вращении; точкам схождения, наклонения и поворота кривых линий... тому, какие светила могут быть населенными; необыкновенному происхождению некоторых насекомых; ответьте, говорю я, вы, давшие нам столько удивительных сведений: если бы вы никогда не научили нас всему этому, увеличилась ли бы численность наша, ухудшилось ли бы наше правление, меньше ли бы страшились нас, уменьшилось ли бы наше процветание, наша извращенность?».
Строки эти, конечно, могли действовать своей искренностью и красноречием, но никоим образом не были в состоянии помешать беспрерывному и победоносному шествию науки. Именно в конце XVIII века осуществила она свои первые прочные успехи. Стоит вспомнить мировую систему Лапласа и основание химии — закон сохранения материи Лавуазье.
В XIX веке наукою был произведен переворот всего жизненного строя применением пара и многих других в высшей степени важных открытий. Тем не менее многие выдающиеся умы этим не удовлетворились. Так, против науки XIX века восстает и другой гениальный писатель.
В статье под заглавием «О значении науки и искусства» Лев Толстой старается доказать бесполезность науки в разрешении главных задач, занимающих человечество. Предприятие это для русского писателя должно было быть, конечно, гораздо труднее, чем для Ж. Ж. Руссо, потому что в прошлом веке наука стала гораздо большей силой, чем она была в XVIII веке.
Толстой убежден, что теоретические исследования, как, например, о происхождении живых существ, о внутреннем строении тканей и т. д., не имеют никакого значения для человечества и служат только для прикрытия праздности ученых. «Все, что мы называем культурой, — утверждает Толстой, — наши науки, искусство, усовершенствования приятностей жизни — это попытки обмануть нравственные требования человека; все, что называем гигиеной и медициной, — это попытки обмануть естественные, физические требования человеческой природы».
Все успехи науки «до сих пор не улучшили, а скорее ухудшили положение большинства, т.е. рабочего».
По мнению Толстого, название настоящей науки можно дать только тому, «в чем назначение и потому истинное благо каждого человека и всех людей. Эта-то наука и служила руководящей нитью в определении значения всех других знаний»... «Без науки о том, в чем назначение и благо человека, не может быть никакой науки, и потому без этого знания все остальные знания и искусства становятся, как они и сделались у нас, праздной и вредной забавой».
Итак, главное возражение русского писателя против науки, культуры и прогресса сводится к их бессилию разрешить труднейшие задачи, а именно: о настоящей цели человеческого существования и об определении настоящего блага, к которому должно стремиться человечество.
В этом отношении Толстой выражает мнение, разделяемое большим числом мыслителей. Спустя несколько лет вслед за ним хорошо известный критик и публицист Брюнетьер под влиянием путешествия в Рим и свидания с папою выразил совершенно сходное мнение и громко провозласил «банкротство науки».
Брюнетьер следующим образом формулирует свою критику: «Уже несколько сот лет, как наука обещала обновить мир, разоблачить тайны его; она не сделала этого. Она бессильна разрешить единственно существенные задачи, те, которые касаются происхождения человека, законов его поведения, его будущей судьбы. Мы знаем теперь, что естественные науки никогда ничего не откроют нам на этот счет. Итак, в столкновении между наукой и религией наука оказалась побежденной, так как ей приходится признать себя бессильной там, где религия сохранила всю свою силу. Религия дает решение вопросов, которое не может дать наука. Она открывает нам то, чему не могут нас научить ни анатомия, ни физиология, т.е. тому, что мы такое, куда направляемся и что нам делать».
«Нравственность и религия пополняют одна другую, и так как наука ничего не может сделать для нравственности, то обязанность установить последнюю лежит на религии».
Брюнетьеру возражали, что укоры его неосновательны: во-первых, потому, что наука никогда не обещала разрешить великих задач цели жизни человеческой и основ нравственности, а, во-вторых, потому, что иные из этих задач, вероятно, никогда не будут решены по недоступности своей человеческому пониманию. Очень известный французский физиолог Шарль Рише тщетно искал те научные сочинения, в которых было бы обещано разрешение вопросов, занимающих Толстого, Брюнетьера, а с ним и большую часть человечества.
«В каких классических работах дала наука те ослепительные обещания, о которых с горечью упоминает Брюнетьер? — спрашивает Рише. — В настоящую минуту у меня перед глазами, — продолжает он, — руководство для получения степени бакалавра наук. Это свод современных научных знаний. Напрасно искал я в нем обещаний... В нем нет никаких обещаний».
Эти обещания приходится искать в популярных научных сочинениях. Бесспорно, что со времени пробуждения рационалистического и скептического духа в Европе, т.е. уже в течение нескольких веков, высказывали мысль, что вся жизнь людская может управляться естественными законами. Попытки, сделанные в этом направлении, были очень многочисленны. В сочинении Бюхнера «Сила и материя», представляющем свод мировоззрения, основанного на научных данных XIX века, мы находим следующие указания: «Итак, — говорит немецкий популяризатор, — в настоящее время следует искать основ нравственности помимо старых и воображаемых верований в сверхъестественное... вера в реальность естественного и незыблемого порядка вещей должна заменить веру в духов и привидения, естественная нравственность — искусственную...». Бюхнер пытается даже определить естественную нравственность. По его мнению, это закон взаимного уважения, равноправия каждого с общей и частной точки зрения, ввиду общего блага людей. Все, нарушающее или разрушающее это благо, есть «зло», все, содействующее ему — «добро».
Другой вопрос — куда идем мы? — также находит ответ у Бюхнера. Последний приходит к следующему выводу: «Мысль о небытии и о прекращении индивидуальной жизни нисколько не страшна для человека, воспитанного на философских принципах. Уничтожение есть полный покой, избавление от всех страданий, от всех впечатлений, терзающих душу и тело; это было уже вполне выяснено глубокой религией Будды. Итак, уничтожения нечего бояться, оно гораздо скорее желательно, когда жизнь достигает предела и когда наступает старость со своей неизбежной свитой недомоганий».
Не следует думать, будто только что приведенные мнения исключительны для Бюхнера. Следует заметить, что мы находим те же мысли в книге Геккеля «Мировые загадки», появившейся почти полвека после первого издания «Силы и материи». Он также находит ответы на вопросы, столь занимающие человечество. Как мы видели в главе 5, для него также задача нравственной философии сводится к общественному инстинкту человека и не имеет ничего общего с каким бы то ни было религиозным догматом. Что же касается назначения человека, то он следующим образом решает этот вопрос: «Самый желательный конец после трудовой жизни, по совести, хорошо проведенной, — это вечный покой могилы».
Бюхнер и Геккель утешают тем, что смерть есть вечный «покой», упуская из виду, что между покоем и полным небытием — огромная разница.
Мы находим очень большое сходство в доводах обоих популяризаторов науки XIX века. Как Бюхнер приводит легенду о «вечном жиде», так и Геккель опирается на легенду о несчастном Агасфере, тщетно искавшем смерти и находившем свою вечную жизнь нестерпимой.
«Если даже, — говорит Геккель, — представить себе эту жизнь среди рая со всеми его прелестями, она все же в конце концов должна стать страшно скучной».
Только что приведенные мнения, несомненно, разделяются очень большим числом людей, опирающихся на научные доводы; но нет недостатка и в ученых, иначе смотрящих на занимающий нас вопрос.
Размышляя об общих научных и мировых задачах, немецкий физиолог Эмиль Дюбуа Реймон провозгласил свое «не ведаю» (Ignorabimus). Этим он хотел предупредить, что целый ряд вопросов, в высшей степени важных для человечества, — выше людского понимания и никогда не будет разрешен. Эти-то семь мировых загадок старается разрешить Геккель в своей вышеназванной книге.
Нередки ученые, думающие, что главные задачи, которые, по мнению Толстого, одни составляют настоящую науку, никогда не будут разрешены. «Каждый день, — говорит Шарль Рише, — приносит какую-нибудь новую победу, не разрешая конечной загадки — назначения человека, — загадки, которая, вероятно, никогда не будет решена». Философы тоже исповедуют сходные мнения. «Конечно, — говорит Гюйо, — не у науки должен индивидуум спрашивать доказательств своей вечности».
Ответы современной науки недостаточны для утешения умов, обращающихся к ней. Когда в споре о банкротстве ее Ш. Рише приводит благодетельное лечение дифтерита специфическим серумом в доказательство могущества научных открытий, то Брюнетьер отвечает ему: «Серотерапия не помешает нам умереть и, более того, не научит нас, зачем мы умираем». Всегда мы возвращаемся к вопросу о смерти. К чему вылечивать ребенка от дифтерита для того, чтобы присудить его сделаться взрослым и приобрести понятие о неизбежной смерти, которое должно наполнить его ужасом?
Если наука бессильна разрешить важнейшие задачи, терзающие человечество, если она отказывается от этого по недостатку знания или если она не находит другого конечного решения, как предложение могильного уничтожения, то легко понять, что многие, даже самые выдающиеся умы отворачиваются от нее. Желание найти какое-нибудь утешение в страданиях нашего бытия, без определенной цели направляет их в объятия религий и метафизик. Вот почему в современном человечестве, несомненно, замечается обратное стремление к вере. Погружаются в мистицизм, думая, что он даст ответ менее безотрадный, чем уничтожение, небытие.
Эти поиски сверхъестественного заметны во всех слоях современного общества. Поэтому в высшей степени интересно определить внутренний механизм отдаления от науки и возвращения к вере. В «Исповеди» Толстого мы находим лучшее изложение этой перемены.
Придя к тому выводу, что жизнь — бессмыслица, потому что она не может быть согласуема со страхом смерти и полного уничтожения, Толстой спросил себя: не удастся ли ему решить великую задачу человеческого существования с помощью научных данных? «Я искал во всех знаниях и не только не нашел, но убедился, что все те, которые так же, как и я, искали в знании, точно так же ничего не нашли. И не только не нашли, но ясно признали, что то самое, что приводило меня в отчаяние, — бессмыслица жизни — есть единственное несомненное знание, доступное человеку» «Долго мне казалось, вслушиваясь в важность и серьезность тона науки, утверждавшей свои положения, не имеющие ничего общего с вопросами человеческой жизни, что я чего-нибудь не понимаю».
А между тем вопрос, который ставил себе Толстой, казался ему очень простым: «зачем мне жить, зачем что-нибудь делать? Еще иначе выразить вопрос можно так: есть ли в моей жизни смысл, который не уничтожался бы неизбежной предстоящей мне смертью? На этот-то один и тот же, различно выраженный, вопрос я искал ответа в человеческом знании». «С ранней молодости меня занимали умозрительные знания, но потом математические и естественные науки привлекли меня и, пока я не поставил себе ясно своего вопроса, пока вопрос этот не вырос сам во мне, требуя настоятельного разрешения, до тех пор я удовлетворялся теми подделками ответов на вопрос, которые дает знание». «Я говорил себе: все развивается, дифференцируется, идет к усложнению и усовершенствованию, и есть законы, руководящие этим ходом. Ты — часть целого». «Как ни совестно мне признаться, но было время, когда я как будто удовлетворялся этим. Это было в то самое время, когда я сам усложнялся и развивался. Мускулы мои росли и укреплялись, память обогащалась, способность мышления и понимания увеличивались, я рос и развивался, и, чувствуя в себе этот рост, мне естественно было думать, что это-то и есть закон всего мира, в котором я найду разрешение на вопрос моей жизни. Но пришло время, когда рост во мне прекратился, я почувствовал, что не развиваюсь, а ссыхаюсь, мускулы мои слабеют, зубы падают, и я увидал, что закон этот не только ничего мне не объясняет, но что и закона такого никогда не было и не могло быть, а что я принял за закон то, что нашел в себе в известную пору жизни».
«Не найдя разъяснения в знании, я стал искать этого разъяснения в жизни, — продолжает Толстой свой трогательный рассказ, — надеясь в людях, окружающих меня, найти его». «Разум работал, но работало и еще что-то другое, что я не могу назвать иначе, как сознанием жизни. Работала еще та сила, которая заставляла меня обращать внимание на то, а не на это, и эта-то сила вывела меня из моего отчаянного положения и совершенно иначе направила разум».
Это новое направление оказалось чувством веры. «Как я ни поставлю вопроса: как мне жить? — ответ: по закону божию. Что выйдет из настоящей моей жизни? — Вечные мучения или же вечное блаженство. Какой смысл, не уничтожаемый смертью? — Соединение с бесконечным богом, рай. Так что... я был неизбежно приведен к признанию того, что у всего живущего человечества есть еще какое-то другое знание, вне разума — вера, дающая возможность жить».
«Противоположность разума и веры оставалась для меня той же, что и прежде, но я не мог не признать того, что вера дает человечеству ответы на вопросы жизни и вследствие этого возможность жить».
«Разумное знание привело меня к признанию того, что жизнь бессмысленна, — жизнь моя остановилась, и я хотел уничтожить себя. Оглянувшись на людей, на все человечество, я увидал, что люди живут и утверждают, что знают смысл жизни. На себя оглянулся; я жил, пока знал смысл жизни. Как другим людям, так и мне смысл жизни и возможность жизни давала вера».
Сойдя на этот путь веры, Толстой пришел к следующему воззрению: «Задача человека в жизни — спасти свою душу; чтобы спасти свою душу, нужно жить по-божьи, а чтобы жить по-божьи, нужно отрекаться от всех утех жизни, трудиться, смириться, терпеть и быть милостивым». Это заключение в свою очередь вызвало следующее: «Сущность всякой веры состоит в том, что она придает жизни такой смысл, который не уничтожается смертью».
Легко видеть, что вся эта эволюция, порожденная инстинктивным страхом, привела к вере в нечто, сохраняющееся после смерти. При этих условиях становится понятной упомянутая враждебность к науке, так явно выраженная Толстым.
Конечно, не одного Толстого привела невозможность решения научным способом вопроса смерти к отвержению науки и возврату к вере.
Насколько можно судить по статьям Брюнетьера, он должен был пережить аналогичную внутреннюю борьбу, прежде чем так абсолютно вернуться в лоно католичества.
Но даже столь положительный и скептический ум, как Золя, не устоял против настроений, даваемых верой. По этому поводу мы находим очень интересную заметку у Эд. Гонкура от 20 февраля 1883 г.: «Сегодня вечером после обеда, у софы из резного дерева, возле которой подают ликеры, Золя заговаривает о смерти, навязчивая идея которой еще более преследует его после смерти матери. После молчания он прибавляет, что смерть эта пробила брешь в нигилизме его религиозных убеждений, — так, ужасает его мысль о вечной разлуке»...
Очевидно, что в слоях общества, менее проникнутых рационалистическими и научными идеями, очень часто должно наблюдаться возвращение к религии. В этом отношении мне известна история одной простой женщины-работницы, которая признавалась, что в прежние времена она вовсе не была верующей, но что со времени рождения ребенка стала верить в бога, думая, что одна эта вера может избавить ее дитя от всех могущих постигнуть его бед.
Очень вероятно, что аналогичные размышления лежат в основе мифа о Прометее, похитившем небесный огонь, за что он был прикован к скале.
Ту же мысль очень определенно высказывает Соломон, говоря: «Вот я возвеличился и стал мудрее всех господствовавших до меня над Иерусалимом, и сердце мое познало много мудрости и знания. И я старался познать мудрость и ошибки безумия. Но я узнал, что и это — терзания ума. Потому что, где обилие знания, там обилие горя, и тот, кто обогащается знанием, обогащается и страданием».
Гораздо позднее Шекспир представил в Гамлете тип человека очень высокой культуры, которому рассуждение и размышление мешают действовать. Не будучи в состоянии рациональным путем решить преследующие его задачи, он спрашивает себя: стоит ли жить? И прибавляет следующие многозначительные слова: «Так сознание обращает всех нас в трусов; так блекнет румянец воли перед бледным лучом размышления».
Ввиду согласного мнения стольких гениальных людей приходится, однако, задаться вопросом: не вредит ли слишком много знания людскому благу? Если в самом деле наука способна только разрушить веру и научить нас тому, что живой мир приходит к сознанию бедствий старости и неизбежности смерти, то спрашивается: не лучше ли вовсе остановить науку в ее разрушительном шествии? Быть может, это стремление людей к свету науки столь же вредно для рода людского, как стремление мотыльков к огню гибельно для этих несчастных насекомых?
Вопрос этот требует определенного ответа. Только прежде чем вынести приговор, необходимо хорошенько изучить все обстоятельства дела, что мы и постараемся выполнить в двух следующих главах.
Введение в научное изучение старости |
Общая картина старости. — Теория старческого вырождения у одноклеточных. — Роль конъюгации инфузорий. — Старость у птиц и у человекообразных обезьян. — Общие признаки старческого вырождения. — Склероз органов. — Фагоцитарная теория старческого вырождения. — Разрушение макрофагами благородных элементов. — Механизм седения волос. — Серумы, влияющие на клетки (цитотоксины). — Артериосклероз и его причины. — Вредное влияние кишечной флоры. — Кишечное гниение и способы его предотвращения. — Попытки удлинить человеческую жизнь. — Долговечность в библейские времена.
Мы можем не разделять мнения тех, которые отворачиваются от науки и ищут правды и утешения в религии; но мы не имеем права не считаться с их мнением или относиться к нему свысока. Нельзя также ограничиваться утверждением, что люди, страдающие от противоречия между желанием жить и неизбежностью смерти и ищущие разрешения этой задачи, слишком требовательны и не могут быть удовлетворены.
Когда говорят врачу «голод и жажда мои неутолимы», — он не отвечает «жадным быть очень скверно; следует побороть этот недостаток силою воли». Он подробно исследует больного и старается по возможности избавить его от симптомов, на которые он жалуется и которые обусловливаются чаще всего сахарной болезнью.
Точно так же должны относиться люди науки к жаждущим жизни — они обязаны стремиться к уменьшению их страдания.
Следует признаться, что хотя наука накопила очень много сведений относительно всего, касающегося болезней, средств предупреждения и лечения их, тем не менее она обладает крайне ничтожными данными относительно тех страданий, избавления от которых Будда просил у отца, а именно — старости и смерти. Относительно болезней наука достигла успехов, о которых не мог иметь никакого представления отец Будды, царь Кудгодана; но на вопрос о старости и смерти она не может ответить лучше, чем он. И людям, справляющимся об этих задачах, она, как и царь, не может ответить ничего другого, как: «вы просите меня о невозможном; в этом я бессильна».
Наука не только не имеет никакого средства против старости, но она даже почти ничего не знает относительно этого периода жизни человека и животных. Мне было очень трудно представить читателю на нескольких страницах современное положению медицины: так много следовало сказать по этому поводу. Наоборот, достаточно несколько строк, чтобы изложить наши сведения о старости, так мало знаем мы о ней.
Как человек, так и всякие животные с возрастом претерпевают существенные изменения. Силы ослабевают, тело горбится, волосы седеют, зубы изнашиваются. Одним словом, наступают явления старческой атрофии. В этом преклонном возрасте, начинающемся в различные сроки у разных видов животных, организм становится мало выносливым к вредным влияниям в гибнет от различных болезнетворных причин.
Иногда мы не улавливает причины смерти и объясняем последнюю общим истощением тела, считая такой случай примером естественной смерти.
Свойственно ли это вырождение, или старческая атрофия, одному человеку и высшим животным или же она встречается у всех живых существ? Таков первый вопрос, возникающий в научном уме.
Всем известны старые деревья, один вид которых указывает на их преклонный возраст. Их ствол дуплист, кора потрескана, ветви и листва бедны. Некоторые древесные породы живут сотни и, быть может, тысячи лет; другие же стареют гораздо скорее.
Итак, дряхлость наблюдается и в растительном мире. Думали, что она присуща также простейшим животным, относящимся к классу инфузорий. Вот что было у них найдено. Инфузории легко живут в сосудах с настоем сена или листьев. Они обильно размножаются делением (рис. 13), которое совершается в очень короткие промежутки времени. Иные делятся приблизительно ежечасно. Понятно, что при этих условиях содержимое сосудов населяется необыкновенно быстро и через короткое время кишит инфузориями.
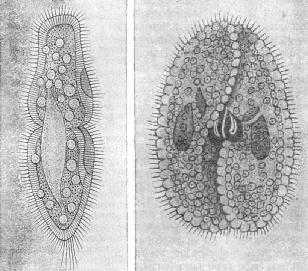 | |
|
Один из замечательнейших зоологов — Mona наблюдал, что после ряда многочисленных поколений инфузории становятся все мельче, подвергаются, так сказать, кахексии и, если им не удается конъюгироваться по две особи, то они умирают от истощения (рис. 14). Это совокупление приводит к обмену некоторых внутренних частей организма инфузорий, в результате чего получается полное обновление. После этого акта, относящегося к явлениям оплодотворения, инфузории снова принимают свой обычный вид и делаются вновь способными размножаться очень долгое время делением.
Это периодическое истощение, предшествующее совокуплению, Mona, является примером старческого вырождения инфузорий. Он видел его у многих видов высших инфузорий (ресничных). То же явление наблюдается у многочисленных других простейших организмов, но, по всей вероятности, его нельзя вполне обобщить для всех микроскопических существ. Так, у бактерий, к которым относится большинство болезнетворных зачатков, конъюгация встречается только в очень редких случаях. Даже самые крупные виды, как сибиреязвенная палочка, могут культивироваться в течение длинного ряда поколений, никогда не обнаруживая явлений конъюгации, или совокупления.
Даже у инфузорий, которым необходимо конъюгироваться, чтобы иметь возможность беспредельно размножаться, истощение перед конъюгацией нельзя сравнивать со старческим вырождением человека, деревьев или животных. У всех этих последних мы имеем дело с истощением, предшествующим неконъюгации и не обновлению, а несомненной смерти.
Другая разница, на которую следует указать, заключается в том, что у инфузорий истощение, предшествующее совокуплению, наступает не у всех особей, как мы видим это у животных и растений, подверженных настоящей старости. У инфузорий несколькими сотнями сменяются поколения, прежде чем появятся слабые особи, готовые конъюгироваться.
Если, несмотря на все это, кто-нибудь продолжал бы настаивать на настоящем родстве между старческим вырождением человека и вырождением, предшествующим совокуплению инфузорий, то стоит только представить себе последствия, которые вызвало бы у человека применение способа, столь действительного у инфузорий, чтобы вполне изменить такое мнение: конъюгация инфузорий — настоящее обновление, сразу излечивающее их от истощения; аналогичное средство у человека привело бы только к еще более быстрому и полному истощению. Впрочем, судя по исследованиям Калкинса, истощенные вырождением инфузории могут быть обновлены не только совокуплением с себе подобными, но также прибавлением бульона или мозгового экстракта к среде, в которой они живут.
Настоящая же старость является такой стадией существования, когда силы слабеют с тем, чтобы более не восстановиться.
У животных с определенным жизненным циклом признаков старческого вырождения не замечается. Жизнь взрослых насекомых часто очень кратковременна; они умирают, не обнаруживая ни малейших видимых старческих признаков. У низших позвоночных старость мало известна и вообще мало заметна. Наоборот, у птиц и у млекопитающих признаки старческой атрофии очень резки.
Некоторые виды птиц отличаются долговечностью. У них продолжительность жизни вообще больше, чем у млекопитающих. Нередки примеры, когда такие птицы, как гуси, лебеди, вороны, некоторые хищные птицы и т. д. живут более 50 лет; у млекопитающих же такая долговечность является скорее исключением.
Даже такие мелкие птицы, как канарейки, могут жить до 20 лет. Особенной же долговечностью отличаются попугаи. Известно, что какаду достигают 80 лет и более. Нам удалось исследовать южно-американского попугая (Chrysotis amazonica), умершего в 82 года, — очень глубокий возраст для этого вида. За несколько лет до своей смерти попугай обнаруживал бесспорные признаки старческого вырождения. Он стал менее подвижен; оперение его, не представляя ни малейшей седины, стало, однако, менее блестящим, суставы лап обнаруживали явные признаки подагры. Одним словом, легко было видеть, что попугай ослаб и истощился.
Признаки старости еще резче у млекопитающих, чем у птиц. Старую собаку легко узнать по ее вялой походке, ее седеющей шерсти, изношенным зубам. Вид такого животного неприятен, тем более, что оно часто бывает нечистоплотным и злым. Брэм следующим образом характеризует старость собаки. «В 12 лет для собаки наступает старость. Эта последняя ступень ее жизни обнаруживается в ее общем виде, во всех ее органах. Шерсть ее теряет блеск и седеет на лбу и на морде; зубы стираются и выпадают. Собака становится ленивой, безразличной ко всему, что прежде ее возбуждало или радовало; часто она теряет голос и слепнет. Собаки иногда достигают 20 и даже 26 и 30 лет, но это — редкие исключения».
Так как здесь дело идет о домашнем животном, то можно было бы думать, что старость его, сопровождаемая столь значительными явлениями вырождения, ускоряется искусственными условиями жизни. Поэтому для того, чтобы иметь возможность судить по существу, следовало бы взять пример старости млекопитающего, живущего на свободе. Между тем условие это не легко выполнимо, потому что старые животные вследствии своей слабости легко становятся добычей хищников. Ввиду этого интересно привести некоторые сведения, собранные о старости человекообразных обезьян.
Туземцы Борнео наблюдали старых орангутангов, которые не только потеряли все зубы, но так утомлялись лазаньем на деревья, что предпочитали питаться только тем, что случайно падало с них, и соком трав. По словам Сэваджа, гориллы с возрастом седеют; это и подало повод к басне, будто существует два вида этих животных.
Старость обезьян на свободе очень напоминает нашу собственную; подобно ей, она сопровождается печальными явлениями. Итак, старческое вырождение, на которое все смотрят как на одно из величайших в мире зол, вовсе не есть привилегия одного человеческого рода.
Если картина старости, нарисованная в приведенной нами в главе VI буддийской легенде, и преувеличена, тем не менее верно, что этот период жизни характеризуется значительными изменениями, делающими существование стариков весьма печальным. Будда в силу своего пессимизма смотрел на вещи слишком мрачно. Посмотрим же, как характеризуют старость оптимисты. Вот как описывает ее Макс Нордау — врач, литератор и публицист: «...Старик, — говорит он с точки зрения беспристрастного наблюдателя, — физически является неприятным воплощением дряхлости; нравственно он — слепой и безжалостный эгоист, не способный даже интересоваться чем бы то ни было, кроме самого себя; умственно он — ослабленный и ограниченный мыслитель, по существу сплетенный из старых ошибок и предрассудков и остающийся глухим для новых идей» («Психологические парадоксы»).
Но, быть может, мне возразят, что я черпаю свои сведения у писателя, который в качестве публициста склонен к преувеличениям.
Обратимся же к ученому-физиологу, который говорит перед слушателями, желающими поучаться и узнать истину. Изложив в общих чертах физическое вырождение, обусловленное старостью, Лонже рисует следующую картину: старики «чувствуют, что земное призвание их выполнено; им кажется, что каждый думает это о них и попрекает их за то, что они еще занимают место на земле; отсюда их недоверие ко всему окружающему, их зависть ко всему молодому; отсюда также их любовь к одиночеству и неровность их настроения... Конечно, не все старики таковы: сердце иных остается молодым и бодро бьется в ослабевшем теле; но вообще старики мрачны, в тягость себе и другим, если они не окружены детьми и внуками, которые любят в них прошлое и прощают настоящее. Так сменяются для них годы, и каждый шаг вперед приближает их к концу поприща, каждый час проводит в них новую морщину, приносит им новую слабость, новое сожаление. Их тело... дряхлеет, позвоночник слишком слаб, чтобы поддерживать их, и это придает им особенное положение, приближающее их к земле».
Несомненно, что старость — печальное состояние; для того чтобы проникнуть в сущность его, необходимо глубокое изучение. Пока не имели никакого представления о настоящей причине болезней, большею частью не могли ничего предпринять для пресечения их. То же относится и к старости.
Возможно ли при современном положении науки составить себе сколько-нибудь точное понятие о характеристических чертах старческого вырождения? Задача эта не легка ввиду незначительного количества точных фактов, относящихся к этому, столь важному, однако, вопросу.
Все знают, что мясо старых животных отличается жесткостью. Нельзя сравнивать мясо старых кур с нежным мясом цыплят. Другие органы, как печень или почки, у старых животных гораздо тверже, чем у молодых. Твердое мясо старых животных сравнивают с подошвою. Это сравнение по существу верно. Подошва сделана из кожи животного, т.е. из очень твердой ткани, состоящей из так называемой «соединительной ткани» — громадного количества волокон, смешанных с живыми элементами или соединительнотканными клетками. Ткань эта очень прочная, почему и служит для выделывания подошв обуви.
Когда соединительная ткань значительно развивается в каком-нибудь органе, то последний становится тверже и менее пригодным для еды. Отвердение это называется склерозом (печени, почек и т. д.). Именно в старости многие органы склонны отвердевать или подвергаться склеротическому вырождению. Факт этот был давно замечен, но общее значение его признано только гораздо позднее. Вот что говорит Деманж в своей монографии об изменениях организма в старости: «Одновременно с атрофией и вырождением паренхиматозных элементов наблюдается глубокое изменение соединительнотканной сети, служащей им опорой. В иных случаях вследствие клеточной атрофии соединительнотканная оболочка становится явственнее, однако без преувеличенного развития; это часто наблюдается в старческой печени. Но, по большей части соединительная ткань претерпевает настоящее возбуждение, которое, не доходя до воспаления, вызывает разрастание и последующий склероз. Склероз этот, смотря по обстоятельствам, развивается то островками, то полосами; он начинается то с периферии органа, то в глубине его и своими петлями заглушает элементы органа, обусловливая новую причину их атрофии и вырождения. Клеточный элемент, таким образом, мало-помалу исчезает, соединительнотканная сеть заменяет его и в некоторых случаях, например, в предстательной железе, вследствие своего усиленного развития, делает орган объемистее нормальной его величины; но еще чаще следствием является общая и частная атрофия».
Старческие склерозы иногда выражаются в форме отвердевания печени (цирроз печени) или почек (цирроз почек); но всего чаще этому изменению подвергаются артерии; дегенерация последних известна под названием артериосклероза.
Казалис давно уже формулировал так часто повторяемый афоризм: «наш возраст, — это возраст наших артерий». И действительно, эти сосуды, разносящие кровь во все органы, имеют очень большое значение для всей нашей организации. Когда вследствие чрезмерного развития соединительной ткани они отвердевают, то хуже выполняют свою деятельность и становятся гораздо более хрупкими. Приписывали даже (теория Деманжа) все старческие изменения вырождению артерий. Это — очевидное преувеличение, тем более что при вскрытии стариков нередко наблюдают слабую степень или даже отсутствие артериосклероза.
Можно было бы думать, что отвердевание многих органов в старости — общее явление и придает большую прочность всему скелету. Кости, отделенные одна от другой в зрелом возрасте, у стариков спаиваются вследствие известкового отложения в швах. Позвонки часто спаиваются вследствие окостенения отделяющих их частей. Большинство хрящей также окостеневает. Однако, несмотря на все это, точно для того, чтобы доказать, что в старости все полно противоречий, самый костный скелет становится легче, количество минеральных веществ в нем уменьшается. Следствием этого являются частые изломы костей у стариков. Особенно часто ломается у них головка бедренной кости; это имеет нередко своим последствием смерть, как это случилось со знаменитым Вирховым — одним из величайших представителей научной медицины XIX века.
Может ли наука определить главные изменения тканей у стариков? На Берлинском международном медицинском конгрессе 1890 г. известный немецкий анатом Меркель захотел ответить на этот вопрос. В описании тканей в старости он старается доказать, что некоторые из них, как, например, ткани, покрывающие кожу и слизистые оболочки (эпителиальные ткани), отличаются сохранением типа молодости; другие же, как соединительная ткань, представляют величайшие изменения. Эта попытка является первым очерком скрытого механизма старческого вырождения; но она не приводит ни к какому простому и общему представлению.
Позднее я старался пополнить этот пробел, пользуясь появившимися работами различных наблюдателей по вопросу о старческом вырождении. Я формулировал следующим образом свое мнение: в старческой атрофии мы всегда встречаем одну и ту же картину — атрофию благородных и специфических элементов тканей и замену их гипертрофированной соединительной тканью. В мозгу нервные клетки, т.е. те, которые служат для самой высокой деятельности — умственной, чувствующей, управляющей движениями и т.д. — исчезают для того, чтобы уступить место низшим элементам, известным под именем невралгии — рода соединительной ткани нервных центров. В печени соединительная ткань вытесняет печеночные клетки, выполняющие существенную роль в питании организма. Та же ткань наводняет и почки; она затягивает каналы, необходимые для избавления нас от множества вредных растворимых веществ. В яичниках яички — специфические элементы, служащие для размножения вида, — точно так же вытесняются и заменяются клетками зернистого слоя из группы соединительной ткани.
Другими словами, старость характеризуется борьбою между благородными элементами организма и простыми, первичными, — борьбою, кончающейся в пользу последних. Победа их выражается ослаблением умственных способностей, расстройствами питания, затруднением обмена веществ и т. д.
Говоря «борьба», я не употребляю метафоры. Дело идет о настоящей битве в самой глубине нашего организма.
Во всех частях нашего тела встречается немало клеток, удержавших значительную долю независимости. Они обладают самостоятельной подвижностью и способны поглощать разные твердые тела, вследствие чего их называют фагоцитами, или пожирающими клетками. Последние выполняют очень существенную роль в нашем организме, именно; они в большом количестве скопляются вокруг микробов или разных других посторонних тел, способных вредить здоровью, и поедают их. Фагоциты также рассасывают кровоизлияния и различные элементы, проникающие в места, где не могут выполнять никакой полезной роли. Так, когда при апоплексическом ударе кровь изливается в какую-нибудь часть мозга и вызывает двигательный паралич, фагоциты скопляются вокруг кровяного сгустка и пожирают его вместе с заключенными в нем кровяными шариками. Рассасывание это производится медленно; но по мере того, как мозг освобождается от кровоизлияния, движения восстанавливаются, и организм может вполне выздороветь. В этом примере излечение обязано фагоцитам.
Когда, во время родов, матка представляет громадную рану, покрытую кровяными сгустками, опять-таки фагоциты очищают ее и приводят в нормальное состояние. Итак, роль этих клеток вообще очень благодетельная.
Существуют две большие категории фагоцитов: мелкие подвижные фагоциты, обозначаемые под именем микрофагов, и крупные фагоциты, то подвижные, то нет, которых называют макрофагами.
Первые происходят из костного мозга и циркулируют в крови, составляя часть белых кровяных шариков, или лейкоцитов. Они отличаются лопастной формой своих ядер, что позволяет им легко проникать сквозь мелкие кровяные сосуды и скопляться в экссудаты, развивающиеся вокруг микробов. Иногда экссудаты эти образуются в очень короткое время, что является очень выгодным условием для выздоровления от заразных болезней.
Наоборот, при рассасывании кровоизлияния и при зарубцевании ран действуют главным образом макрофаги. Вообще можно сказать, что микрофаги излечивают нас от микробов, а макрофаги — от механических повреждений, как кровоизлияния, поранения и т. д.
Макрофаги снабжены простым, нелопастным ядром. Они относятся либо к известной категории белых шариков крови, лимфы и экссудатов, либо к неподвижным клеткам соединительной ткани, селезенки, лимфатических желез и т. д.
Фагоциты одарены собственной чувствительностью. Они обладают родом обоняния или вкуса, позволяющим им узнавать состав окружающей среды. Судя по полученному впечатлению, они или приближаются к телам, вызвавшим его, или остаются безразличными, или удаляются. Проникновение в организм заразных микробов раздражает преимущественно микрофагов; привлекаемые микробными продуктами, они стекаются в экссудаты.
При старческом вырождении мы имеем дело с вмешательством макрофагов. Фагоциты эти обусловливают, между прочим, атрофию почек у стариков (рис. 15). Они в огромном количестве притекают к этим органам, где скопляются вокруг почечных канальцев и уничтожают их. Заняв их место, макрофаги образуют соединительную ткань, заменяющую, таким образом, нормальную почечную ткань. Аналогичный процесс происходит также и в других тканях, подвергающихся старческому перерождению. Так, наблюдают, что в мозгу стариков и старых животных очень многие нервные клетки окружены макрофагами и поедаются ими (рис. 16).
В вышеприведенной мною статье я счел себя в праве утверждать, что старческое вырождение по существу сводится к разрушению макрофагами благородных элементов организма. Результат этот следовало подтвердить прямыми наблюдениями, тем более, что некоторые ученые сочли его сомнительным.
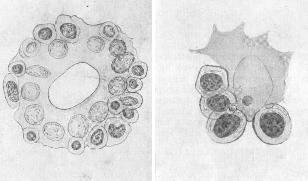 | |
|
Так Маринеско, имеющий авторитет во всем, касающемся нервной системы, возражал против моего мнения, основываясь на том факте, что в нервных центрах стариков разрушение специфических элементов не зависит от фагоцитов.
Вот как он высказывается по этому вопросу: «На большом числе препаратов как головно-мозговой коры, так и спинного мозга стариков я никогда не находил макрофагов, разрушающих нервную клетку; старческая атрофия, следовательно, не есть результат нашествия фагоцитов на нервную клетку». В подтверждение своего мнения Маринеско прислал мне несколько препаратов спинного мозга и головно-мозговой коры стариков. Я легко мог подтвердить отсутствие фагоцитоза в спинном мозгу, т.е. в органе, старческое перерождение которого вообще очень слабо. Наоборот, на разрезах коры больших полушарий двух стариков 102 и 117 лет я без труда мог заметить очень большое количество нервных клеток, задетых макрофагами. Маринеско высказал мнение, что наводнение нервных клеток макрофагами нисколько не зависит от поглощения первых последними. Основываясь на новейших исследованиях, я более чем когда-либо остаюсь при том мнении, что нервные клетки пожираются макрофагами.
Вопрос этот в течение последних лет подвергли многосторонней и тщательной разработке. Много было высказано мнений и за и против поедания нервных клеток макрофагами, но нужно думать, что окончательное решение этого вопроса не за горами, тем более что главный мой противник, Маринеско, наконец, согласился признать невронофагию в том смысле, как я ее проповедую.
Несколько лет назад боннский профессор Рибберт восстал против моего мнения, что в старческом вырождении особенно важная роль выпадает на атрофию нервных клеток при помощи макрофагов. Он думает, напротив, что при этом влияет главным образом накопление пигментных зернышек в нервных клетках, мешающее нормальному отправлению последних. Теория эта, однако же, легко опровергается фактами. Так, например, у старых попугаев, у старых белых мышей и белых крыс вовсе не наблюдается отложения пигмента в нервных клетках, между тем как последние окружаются макрофагами, обусловливающими их атрофию.
Наводнение тканей макрофагами в старости представляется таким общим явлением, что ему, несомненно, надо придавать большое значение. Только для того, чтобы точнее определить роль этих фагоцитов, надо было подыскать особенно подходящий объект исследования. Я обратился к седению волос, являющемуся всего чаще первым видимым признаком старости. Окрашенные волосы наполнены зернами пигмента, разбросанными в обоих слоях, составляющих волос. В определенный момент клетки осевой части волоса начинают двигаться; они выходят из своего оцепенения и начинают пожирать весь доступный им пигмент. Набитые окрашенными зернами, клетки эти, составляющие разновидность макрофагов (и названные пигментофагами или, еще лучше, хромофагами), становятся подвижными и покидают волос, направляясь то в кожу, то вон из организма (рис. 17). Таким путем хромофаги переносят пигмент волос, которые вследствие этого становятся бесцветными, седыми.
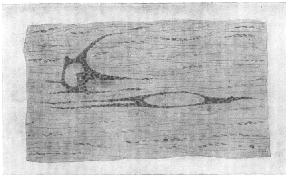 | |
|
Этот процесс всего проще объясняет быстрое седение волос: по поводу него существует целая литература. В то время как некоторые авторы признают возможность очень быстрого исчезновения пигмента, другие, из которых упомяну известного анатома Штида, категорически отрицают этот факт. Нынешняя война, столь богатая явлениями нервного возбуждения, дала возможность с точностью решить этот вопрос.
Привожу случай, рассказанный врачом Лебором относительно молодого солдата 23 лет.
Вскинутый в воздух перед взорванной траншеей — он оглох и был контужен в различные части головы, особенно с левой стороны, и, будучи отправлен в английский лазарет в Арк-ан-Барруа, на другой день он с изумлением заметил, что у него на голове, с левой стороны, пучки белых волос.
Механизм седения волос и шерсти имеет то значение, что указывает на возбуждение макрофагов, как на преобладающее явление в старческом вырождении. Пористость костей у стариков зависит от сходной причины, т.е. от рассасывания и разрушения скелета возбужденными макрофагами, наводняющими костные пластинки. Этот вывод вытекает из исследований, предпринятых нами совместно с доктором Вейнбергом, и находится в согласии с данными, опубликованными Таширо.
Усиленная деятельность макрофагов в старости очень тесно связана с явлениями при некоторых хронических болезнях. Старческий склероз входит в ту же категорию, как и склероз органов, вызванный различными болезнетворными причинами. Так, несомненно, существует аналогия старческого вырождения почек с хроническим так называемым интерстициальным нефритом. Указанное нами старческое разрушение нервных клеток макрофагами встречается также в некоторых болезнях нервных центров, как, например, в прогрессивном параличе, бешенстве и проч.
Недавно известный анатом Штида высказал мнение, по которому волоса вовсе не седеют, а заменяются белыми волосами, сразу вырастающими без пигмента. Это мнение, однако же, опровергается точно установленными фактами и находится в противоречии с седеньем перьев, которое может быть прослежено гораздо полнее, чем седенье волос.
Недавно Салимбени и Жери сделали очень подробное микроскопическое исследование органов 93-летней старухи, причем оказалось, что повсюду было заметно наводнение тканей макрофагами, как это вообще наблюдается в старости.
Уже давно заметили, что старость очень сходна с болезнью. Поэтому вовсе неудивительно, что человек ощущает сильное отвращение к старости. В то время, как дети и юноши всегда считают себя старше своих лет и явно желают стать взрослыми, зрелый человек не имеет никакой охоты состариться. Инстинктивное чувство подсказывает нам, что старость заключает в себе нечто ненормальное. Без сомнения, ошибочно смотреть на старость как на физиологическое явление. Из-за того, что все стареют, принимать старость за нормальное явление можно лишь постольку, поскольку можно принимать за нормальное явление родовые боли, от которых избавлены только очень немногие женщины. В обоих случаях, мы, конечно, имеем дело с патологическими, а не с чисто физиологическими явлениями. Подобно тому, как стараются смягчить, или устранить боли роженицы, так естественно стремиться устранить зло, приносимое старостью. Но во время родовых болей достаточно применить анестезирующее средство, между тем как старость — хроническое зло, против которого гораздо труднее найти лекарство.
Мы видели, что в старости происходит борьба между благородными элементами и фагоцитами, что жизненность первых большею частью ослаблена, в то время как вторые, наоборот, обнаруживают усиленную деятельность. Поэтому, казалось бы, что средством борьбы против патологической старости должно бы быть, с одной стороны, усиление наиболее ценных элементов организма, а с другой — ослабление наступательного стремления фагоцитов.
Я должен сейчас же предупредить читателя, что задача эта еще не решена, но что решение ее не заключает в себе ничего непреодолимого. Это такой же научный вопрос, как многие другие. Свойства клеточных элементов легко изменяются под различными влияниями. Поэтому нет ничего неразумного в искании средств, способных усиливать кровяные шарики, нервные, печеночные и почечные клетки, сердечные и другие мышечные волокна.
Но если эти благородные элементы (нервные, печеночные, почечные и сердечные клетки) требуют усиления, то это доказывает, что они подвержены каким-то постепенно ослабляющим их причинам.
Было бы в высшей степени важно знать, каковы эти причины, потому что это дало бы нам в руки еще новое средство борьбы со старостью. Аналогия старческого вырождения с атрофическими болезнями наших важнейших органов позволяет предположить и сходство причин, вызывающих оба эти ряда явлений. Склероз мозга, почек и печени часто зависит от отравления такими ядами, как алкоголь, свинец, ртуть и т. д. Болезни эти также могут быть вызваны заразными началами, между которыми главную роль играет сифилис.
Большое значение этого венерического заболевания, вызывающего болезненные и патологические признаки старости, главным образом обнаруживается в артериосклерозе. По очень добросовестным исследованиям, собранным шведским врачом Эдгреном в монографии по артериосклерозу, пятая часть случаев этой болезни вызывается сифилисом.
Еще большее количество случаев (25%) обусловлено хроническим алкоголизмом. Итак, оба эти фактора вместе обусловливают почти половину (45%) случаев артериосклероза.
Сифилитический вирус и алкоголь действуют как яды, вызывающие сначала дегенерацию и отвердение стенок артерий, а затем ослабление благородных элементов организма. Низшие клетки — фагоциты — менее чувствительны к этим ядам, чем и объясняется их победа над отравленными элементами.
Ревматизм, подагра и инфекционные болезни играют только второстепенную роль между причинами артериосклероза. В результате всех расчетов Эдгрен признается, что почти в одной пятой случаев ему невозможно было добиться настоящей причины артериосклероза. В громадном большинстве этих случаев дело касалось пожилых людей, «таких», которые, по Эдгрену, «поражены так сказать физиологическим склерозом».
Я же предполагаю, что этот склероз без выясненной причины — вовсе не физиологический, а, должно быть, столь же патологический, как и склероз сифилитического или алкоголического происхождения. Но откуда же, спросят меня, является отравление в этих случаях? При сифилисе мы имеем дело с организованным вирусом. Он-то и вызывает инфекцию или отравление, приводящее к артериосклерозу, прогрессивному параличу и к другим серьезным повреждениям здоровья. При алкоголизме мы имеем дело с ядом дрожжей, этих микроскопических грибков, близких к настоящим микробам. Для того же, чтобы объяснить артериосклероз в примерах, где нет ни сифилиса, ни алкоголизма, ни другой определенной причины, следует отнести отравление на счет той массы бесчисленных микробов, которые кишат в нашем кишечном канале.
Уже Бушар обратил внимание на отравление организма, зависящее от нашего кишечного канала. Бушар особенно настаивал на роли ядов пищи в причинении обобщенного уплотнения артерий. Эти яды вырабатываются кишечными микробами.
Между этими микробами могут быть безвредные, даже такие, которые полезны, но, бесспорно, есть много таких, присутствие которых вредит здоровью и жизни. Не будучи в состоянии подробно рассмотреть этот важный вопрос, считаю нужным резюмировать его в нескольких строках.
Кишечный канал человека питает громадное количество бактерий. По исследованиям Страсбургера, оно достигает 128 000 000 000 000 в день. Микробы эти немногочисленны в частях кишечника, переваривающих пищу, но они кишат в толстых кишках, т.е. нижней части, служащей вместилищем пищевых остатков. Последние вместе со слизистыми выделениями служат очень благоприятной средой для размножения микробов. И в самом деле, микробная флора составляет 1/3 человеческих испражнений. Флора эта очень разнообразна и заключает большое число видов, между которыми встречаются палочки, кокки и разные другие микробы; некоторые из них еще недостаточно изучены.
Уже одно распределение этой микробной флоры доказывает ее бесполезность для жизни и здоровья человека; она бедна в переваривающих частях и очень богата в тех, которые не выполняют этой функции. Одного этого факта достаточно для опровержения мнения ученых, приписывающих кишечной флоре полезное влияние. Мнение это основано главным образом на том, что некоторые животные истощаются при взращивании в исключительных условиях без доступа микробов. Шотелиус впервые выполнил такой опыт. Он выводил цыплят в клетке, для этого специально приготовленной. Цыплята вылуплялись из яиц и жили несколько недель; но, не заключая микробов внутри своего тела и питаясь одной стерилизованной пищей, они, вместо того, чтобы прибавляться в весе, худели и впадали в крайний маразм.
Когда Шотелиус прибавлял бактерии к пище этих кахектических цыплят, последние немедленно поправлялись и возвращались к нормальному состоянию.
Аналогичный опыт был сделан г-жею Мечниковой над головастиками лягушки; выкормленные в сосуде с хлебом, заключающим микробы, они развивались нормально; когда же выращивание производилось при полном отсутствии микробов, то головастики хотя и жили в течение месяцев, но были кахектическими и останавливались в своем развитии.
Впоследствии Коэнди и Вольману удалось выращивать цыплят и головастиков лягушки без всякого содействия микробов при вполне удовлетворительных условиях развития.
С другой стороны, Нюталю и Тирфельдеру удалось в течение нескольких дней растить новорожденных морских свинок, кишечник которых не содержал микробов и которые получали исключительно вполне стерилизованное молоко или растительную пищу. Несмотря на этот режим без микробов, морские свинки развивались в довольно хорошем состоянии.
Так как оба ряда опытов были произведены при условиях, устраняющих всякую причину ошибки, то было бы очень важно согласовать, по-видимому, совершенно противоречивые результаты. Все приведенные три опыта имеют то общее между собою, что они относились к новорожденным животным. А, как известно, непосредственно после рождения пищеварительные ферменты часто выделяются очень несовершенным образом. У морских свинок количество их могло быть достаточным для переваривания вводимой пищи, в то время как у цыплят и у головастиков ферменты эти сами по себе не были в состоянии в достаточной степени выполнять свою роль. Прибавление микробов, одаренных значительной пищеварительной силой, легко могло пополнить недостаточность собственных ферментов кишечного канала.
Рядом с морскими свинками, взращенными Нюталем и Тирфельдером, стоит целая серия низших животных, каковы личинки моли и другие насекомые, кишки которых вполне лишены микробов, а между тем легко усваивают очень неудобоваримую пищу, как воск и шерсть. Результаты эти подтверждаются еще фактом, хорошо известным физиологам: желудочный и панкреатический соки млекопитающих легко переваривают очень разнообразную пищу в средах, заключающих антисептические вещества, причем вмешательство микробов вполне исключено. За последнее время докторами Коэнди и Вольманом были произведены в моей лаборатории опыты, доказывающие, что цыплята, головастики лягушек и мухи могут быть выращены без всякого участия каких бы то ни было бактерий.
Нам нет надобности углубляться здесь в изучение этого вопроса, так как то, что по существу интересует нас, легко может быть доказано при помощи фактов, уже изложенных читателю. Так, полная атрофия толстых кишок у женщины, о которой шла речь в главе IV, достаточно доказывает, что эта часть кишечника не только не необходима для здоровья и жизни человека, но и что он легко может обойтись без богатой флоры, заключенной в его толстой кишке. В этом-то и заключается вся суть вопроса. Именно эта бесполезная флора и может вызвать серьезные повреждения здоровья и даже угрожать смертью. Брюшные раны гораздо опаснее грудных потому, что они позволяют содержимому кишок проникать в брюшную полость. Кишечные микробы размножаются тогда в организме, который и заболевает серьезно или смертельно.
Когда микробы эти остаются в кишечном содержимом, они только редко и в малом количестве проникают в кровообращение; поэтому организм без большого затруднения побеждает их. Громадное большинство этих микробов не проходит сквозь стенки кишок, но их растворимые продукты легко могут попасть в лимфу и кровь. Факт этот вытекает из множества хорошо установленных данных.
Уже довольно давно в моче человека и животных был найден целый ряд таких веществ, как производные фенола, крэзола, индола, скатола и т. д. Было замечено, что при некоторых болезнях количество этих веществ значительно увеличивается. Застой содержимого кишок вызывает увеличение фенола и индола.
Как эти, так и несколько других аналогичных фактов, подали мысль, что названные продукты выделяются микробами, живущими в кишках. Всасываясь стенками кишок, они проникают в кровь и могут вызвать более или менее серьезные нарушения здоровья.
Бауманн, очень много занимавшийся этим вопросом, представил весьма большое количество доводов, основанных на точных опытах и говорящих в пользу микробного происхождения веществ в моче. Эвальд подтвердил это предположение очень наглядными фактами иного рода. Ему представился случай изучить пациента, которому вследствие ущемления грыжи пришлось сделать кишечную фистулу.
За время бездействия толстых кишок, кишечное содержимое и моча не заключали ни фенола, ни индола, ни их производных. Но как только фистула закрылась и восстановилось сообщение с толстыми кишками, фенол и индикан вновь появились в выделениях. Эвальд заключает из этого, что источник обоих этих веществ находится в толстых кишках.
После целого ряда исследований, произведенных за последнее время, не может более подлежать сомнению, что названные яды суть исключительные продукты жизнедеятельности кишечных бактерий и что, несмотря на небольшое количество, попадающее в кровь, эти яды способны вызвать хроническое отравление в виде артериосклероза, медленного воспаления почек, печени и проч., словом в виде изменений, характерных для старческого перерождения. Предположение мое о роли кишечной флоры в обусловливании старости уже более не есть гипотеза, как прежде, а научно установленный факт. Систематические исследования, выполненные за последние годы в моей лаборатории, поставили вне всякого сомнения вредное влияние индола, фенолов и масляной кислоты (продуктов кишечного гниения и брожения) на самые ценные ткани нашего организма.
В главе IV мы уже высказали положение, что толстые кишки развились у млекопитающих с целью накопления пищевых остатков при продолжительном и безостановочном беге, который представляет преимущество в борьбе за существование. С другой стороны, микробы, столь обильно развивающиеся в содержимом толстых кишок, облегчали усвоение некоторых неудобоваримых веществ, как, например, клетчатки. Но оба эти обстоятельства не имеют более значения для рода человеческого. Не быстротой бега достигает человек своей добычи, и не им избегает он врагов своих. Сильное развитие его умственных способностей дает ему возможность бороться другими, гораздо более действительными средствами. С другой стороны, он легко может обойтись без клетчатки: кухонное искусство и культура овощей и плодов растений дают ему такие средства питания, о которых никогда не могло и подумать ни одно животное.
Но и эта медаль имеет свою обратную сторону. Не обладая сознанием ни смерти, ни старости, млекопитающие приобрели преимущества толстых кишок за счет своей долговечности. Уже было упомянуто выше, что птицы живут долее млекопитающих. Они же лишены толстых кишок и имеют несравненно менее богатую микробную флору, чем млекопитающие. Правило это представляет одно очень многозначительное исключение. Страусы и другие бегающие, самые большие из птиц, отличаются неспособностью летать и быстротою бега, избавляющей их от погони врагов. Только у них одних из всех птиц сильно развиты толстые кишки. Однако вместо того, чтобы жить гораздо дольше значительно меньших птиц, как попугаи, вороны, лебеди и т. д., страусы, по наблюдениям Ривиера, занимающегося в Алжире разведением их, живут всего до 35 лет. Своим образом жизни, развитием толстой кишки, богатством кишечной флоры и кратковременностью жизни страусы, следовательно, гораздо ближе подходят к млекопитающим, чем к птицам.
Замечательно, что большое число долговечных птиц не имеют слепой кишки, — части, заключающей всего более микробов. Исследование содержимого кишок попугая указывает на крайнюю бедность микробной флоры.
Итак, сравнительное изучение фактов вполне подтверждает гипотезу, что обильная кишечная флора, бесполезная для пищеварения, укорачивает только жизнь, благодаря микробным ядам, ослабляющим благородные элементы и усиливающим фагоциты.
Род человеческий унаследовал от своих предков, как толстые кишки, так и условия, благоприятствующие развитию богатой кишечной флоры. Он терпит, следовательно, неудобства этого наследия. С другой стороны, у человека мозг необыкновенно развился, а с ним и умственные способности, обусловливающие наше сознание старости и смерти. Наше сильное желание жить находится в противоречии с немощами старости и краткостью жизни. Это — наибольшая дисгармония человеческой природы.
Итак, для того чтобы сделать старость действительно физиологической, необходимо противодействовать неудобствам, зависящим от развития толстых кишок. Разумеется, невозможно положиться на силы, действующие вне воли человека, и ждать уничтожения ставших ненужными толстых кишок. Человек, руководимый точной наукой, должен деятельно стремиться достигнуть этого результата. Уже теперь некоторые искусные хирурги отваживаются удалять толстые кишки у больных, страдающих хроническими запорами. Быть может, в отдаленном будущем и пойдут по этому пути. Но пока рациональнее действовать непосредственно на вредные микробы, населяющие наши толстые кишки. Среди их разнообразной флоры можно отличать так называемые анаэробные бактерии, т.е. способные жить без свободного кислорода и добывающие его по мере надобности из разлагаемых ими органических веществ. Разложение это выражается явлениями брожения и гниения, часто сопровождаемыми выделением ядов. Между последними встречаются алкалоиды (птомаины), жирные кислоты и даже настоящие токсины.
В кишках нормального человека явления гниения происходят только в слабой степени, иногда даже вовсе не происходят. Но при кишечных болезнях детей и взрослых гнилостные микробы обильно развиваются и выделяют яды, раздражающие стенки кишок. Во избежание этих гнилостных болезней у маленьких детей уже довольно давно было предложено давать им только стерилизованное молоко (в тех случаях, когда ребенка выкармливают на рожке) или другую пищу, предварительно освобожденную от микробов. В большинстве случаев такое кормление дает очень благоприятные результаты.
Изыскивая влияния, мешающие гниению, заметили, что молоко загнивает только в редких случаях, в то время как мясо, сохраненное при тех же условиях, очень легко подвергается разложению. Ученые, желавшие дать себе отчет в причине этой разницы, последовательно приписывали отсутствие гниения молока то казеину, то молочному сахару. Но исследования, сделанные эльзасским врачом Бинштоком и подтвержденные Тиссье и Мартелли, установили, что загниванию молока мешают некоторые микробы. Это именно те, которые вызывают скисание молока, превращая молочный сахар в молочную кислоту; они отличаются своим противодействием гнилостным микробам. Гниение происходит в щелочной среде. Между тем микробы молока последовательно производят большие количества кислоты, которая и мешает развитию действия гнилостных бактерий. Если к мясному настою, в который посеяны гнилостные и молочные микробы, прибавить соды, гниение наступает тотчас, несмотря на присутствие этих мешающих организмов.
При таких условиях, понятно, почему молочная кислота часто останавливает некоторые поносы и почему молочный режим так благоприятен в болезнях, вызванных кишечным гниением. Понятно также, почему перебродившее молоко столь полезно в некоторых болезнях.
Итальянский врач Ровиги ежедневно пил 1/2 литра кефира, т.е. молока, подверженного молочному и спиртовому брожениям. Уже через несколько дней исчез индикан в его моче (один из продуктов гнилостного разложения в кишках), и наступило вообще значительное уменьшение эфиров — продуктов гниения.
Итак, совершенно ясно, что с целью сократить эти медленные отравления, ослабляющие сопротивление наших благородных элементов и усиливающие фагоциты, следует вводить в пищевой режим кефир и, еще лучше, кислое молоко. Последнее отличается от кефира отсутствием алкоголя, могущего с течением времени уменьшить жизненность некоторых существенных клеток нашего организма. Присутствие большого количества молочных микробов неизбежно должно мешать размножению гнилостных микробов, что одно уже очень полезно для организма.
За последнее десятилетие употребление бактерий, производящих молочную кислоту на счет сахара, распространилось очень значительно. На аптечном рынке появилось большое количество разных препаратов, из коих многие, к сожалению, не достигают цели. По нашему мнению, лучше всего употреблять кислое молоко, приготовленное при помощи чистых культур молочнокислых бактерий, а также эти культуры в виде мягкой мази, которую можно смешивать с вареньем. Среди молочнокислых бактерий лучше других «болгарская палочка» и «стрептобациллы». Недавно введена в употребление новая бактерия (glycobacter peptolyticus), способная производить сахарные вещества на счет крахмала и тем обусловливающая размножение молочнокислых бактерий в кишечном канале.
Но введением в наш кишечный канал полезных микробов не исчерпываются нужные мероприятия. Можно еще также препятствовать проникновению «диких» микробов, способных вредить здоровью. Почва, особенно унавоженная, содержит множество различных и, между прочим, вредных микробов. Биншток нашел, что в земле земляничных грядок его сада встречаются палочки столбняка. В течение трех недель глотал он понемногу этой земли и убеждался в исчезновении этих микробов в его кишках. Он приписывает это влиянию своих кишечных микробов. Мы имеем, однако, право предполагать, что в случаях, когда такой антагонизм проявляется недостаточно, может развиться столбняк благодаря спорам тетанического бацилла, проглоченным с землею, земляникою или с сырыми плодами и овощами, выросшими на этой земле. Но в унавоженной почве встречаются не одни бактерии столбняка; в ней находится еще множество других микробов и среди них очень опасные.
Поэтому вполне установлена необходимость воздержания от сырой пищи и употребления только предварительно переваренной или же совершенно стерилизованной. Устранение диких микробов и введение культурных из кислого молока могут привести к значительному изменению кишечной флоры, благоприятному для сохранения здоровья. Я знаю людей, следующих такой диете и очень довольных ею.
Итак, наука даже в своем настоящем, несовершенном виде, не безоружна в искании средств, задерживающих или хотя бы ослабляющих медленное и хроническое отравление организма, которое приводит к вырождению наших наиболее ценных элементов. В тех случаях, когда последнее зависит от сифилиса или алкоголизма, борьба должна быть направлена против них. Мы уже давно знакомы со средствами такой борьбы, и если она не очень успешна, то это зависит только от беспечности или недоброжелательства заинтересованных лиц.
Усилить сопротивление благородных клеток и превратить дикую кишечную флору человека в культивированную — таковы достижимые средства для того, чтобы старость стала более физиологической, чем теперь, и, вероятно, также для продления жизни человеческой.
Если бы некоторые из вредных микробов нашей кишечной флоры не могли быть вполне устранимы, то можно было бы обезвредить их помощью соответствующих сывороток. Уже найден специфический серум против микроба ботулизма, способного серьезно вредить здоровью, если он попадает в кишечный канал.
Наше внутреннее сознание говорит нам, что жизнь наша слишком коротка, и уже давно ищут средств для ее продления. Не говоря о средневековых попытках найти жизненный эликсир, вопрос этот занимал и серьезных мыслителей всех времен.
Декарт думал, что нашел средство продлить жизнь, и очень дорожил этим. Бэкон Веруламский напечатал сочинение о жизни и смерти, в котором дает советы для достижения долговечности; в его предписаниях значительную роль играют кровопускания и селитра.
Одним из наиболее древних методов для продления жизни человеческой была так называемая герокомия, состоявшая в соприкосновении стариков с молодыми девушками. Уже царь Давид прибегал к этому средству, и позднее оно было некоторое время в большом ходу.
По всей вероятности, такое прикосновение или даже простое приближение вызывает выделение сока предстательной железы, отличающегося способностью возбуждать движение семенных тел. Этот сок в то же время, должно быть, усиливает и деятельность других органов, чем повышает вообще жизненный тонус и тем содействует выносливости организма.
Шарлатаны XVIII века предлагали разные лекарства против старости; между последними была освященная вода св. Германа, представлявшая настой александрийского листа, действующий как простое слабительное. Несомненно, что некоторые из таких лекарств, очищая толстые кишки, в то же время уменьшали кишечную флору и, следовательно, мешали выделению микробных ядов, столь вредных нашим наиболее благородным клеткам.
В конце XVIII века появилась «Макробиотика, или средство продлить человеческую жизнь» известного немецкого профессора Гуфеланда. В свое время сочинение это возбудило много шума; оно заключает несколько интересных и верных наблюдений. Среди предписаний чистоплотности и умеренности Гуфеланд советует «употреблять больше растительной пищи, чем иной: мясо всегда более склонно к гниению, чем растения, заключающие зачатки кислотности, которая разрушает гниение — нашего смертного врага». Как видно, врач уже этой отдаленной эпохи предвидел один из существенных успехов современной науки.
Задача продления человеческой жизни не перестала занимать ученых и в наше время. Так, один из самых знаменитых современных физиологов, профессор Пфлюгер в публичной лекции изложил результаты своих исследований касательно этого вопроса. Убедившись в том, что биографии людей, достигших очень преклонного возраста, не дают достаточных сведений относительно образа жизни, который следует вести, Пфлюгер настаивает на средствах избежать заразных болезней и приходит к следующему выводу: «В конце концов я могу только присоединиться ко всему тому, что предписано во всех статьях «Макробиотики»; избегайте вредного и будьте умеренны во всем».
Годом позднее один известный немецкий клиницист, Эбштейн напечатал весьма обстоятельное сочинение об искусстве продлить жизнь. Автор этот был очень поражен тем, что между людьми, прожившими очень долго, есть несколько таких, которые вели образ жизни, полный излишеств, особенно злоупотребления спиртными напитками. Несмотря на это, Эбштейн советует если не полное воздержание от этих напитков, то по крайней мере очень большую умеренность в их употреблении. Он также предписывает упрощение образа жизни и воздержание от всего, могущего вредить здоровью.
Изучение его работы, полной научного духа, показывает нам, что макробиотика — наука, которую надо еще создать. Подробное исследование старческих явлений может лишь быть полезным в этом отношении. Во всяком случае невозможно считать чистой утопией проекты сделать старость физиологической и легко выносимой, а также — продлить человеческую жизнь. И это тем более, что нет недостатка в примерах долговечности.
Собрано большое число фактов о людях, живших более 100 лет и до смерти сохранивших свои умственные способности и бодрость. Бесполезно приводить здесь историю людей, из которых некоторые достигли 120, 140 и даже 185 лет (Сан-Мунго в Глазкове). Друг мой Рей Ланкестер предполагает, что эти исключительные старцы — такие же уродливые явления, как и великаны, достигающие невероятных размеров. Но 100- летние старики гораздо многочисленнее великанов, и в то время как у последних наблюдаются несомненные патологические свойства, долговечные люди, наоборот, удивляют нас своей бодростью и здоровьем.
Много говорено было о долговечности древних евреев, упоминаемой в Ветхом завете. Преувеличивают ли, приписывая Мафусаилу 963 года, а Ною — 595, или же летосчисление это производится по иным расчетам, чем наше? Гензелер думает, что в эту отдаленную эпоху каждое время года считалось за год. Тогда долговечность Мафусаила свелась бы к 241 году, что не очень многим превышает самую длинную жизнь, которая наблюдалась в современную нам эпоху.
Что же касается менее древнего периода библейской истории, то многие данные указывают, что год тех времен соответствовал нашему. Так, в книге «Чисел» несколько раз идет речь о людях «двадцати лет и более, входящих в состав Израильтян, которые могут итти на войну». Левиты могли вступать на службу, начиная с 25 лет; но в 50 лет левит выходит в отставку и «более не должен служить»; этот не слишком поздний предел деятельности указывает на то, что годы жизни соответствовали нашим; к тому же многие другие места Пятикнижия, а именно те, в которых идет речь о годичных праздниках после сбора плодов, подтверждают этот вывод. Поэтому приходится допустить как очень вероятную долговечность в 100—120 лет, приписываемую нескольким библейским личностям (Аарону, Моисею, Иисусу Навину). Точно так же следует считать многозначительными слова, вложенные в уста Иеговы, из которых видно, что он полагает предел жизни человеческой в 120 лет.
Итак, долговечность этой отдаленной эпохи должна была быть действительно больше настоящей. По расчету Эбштейна, нормальная жизнь должна длиться 70 лет, потому что в этом возрасте умирает всего более; несмотря на увеличение долговечности в течение XIX века, приходится все-таки признать, что в некоторые библейские эпохи люди жили еще больше, чем теперь: это не должно казаться нам особенно удивительным.
Мы видели, какую важную роль играет сифилис, как причина преждевременной и патологической старости. Он служит одним из великих факторов артериосклероза и вырождения наиболее благородных элементов нашего организма. Сифилис тем ужаснее, что передается по наследству. Между тем, хотя в библии и идет речь о болезнях половых органов и хотя приводятся подробные данные относительно обрезания, однако нет ничего, что можно было бы отнести к сифилису. Эбштейн, напечатавший сочинение о ветхозаветной медицине, настаивает на том, что в «библейских документах ничего не говорится об этой болезни». Впрочем, и в древности сифилис не был вовсе известен или же существовал в ослабленной форме. Гэзер — автор лучшего современного трактата по истории медицины — думает, что если сифилис и встречался у народов древности, то он «оставался местным и во всяком случае гораздо реже, чем теперь, приводил к обобщенному заражению».
Из этого примера видно, какого успеха в долговечности могло бы достигнуть человечество, устранив хотя бы только сифилис, являющийся причиной одной пятой случаев артериосклероза. Уничтожение алкоголизма — этой второй великой причины дегенерации артерий — приведет в будущем к еще большему продлению жизни. Научное изучение старости и средств изменить ее патологический характер, несомненно, будет содействовать тому, чтобы жизнь стала длиннее и счастливее. Несмотря на несовершенство современной науки, нет, следовательно, никаких причин держаться на этот счет пессимистических воззрений.
Введение в научное изучение смерти |
Теория бессмертия низших организмов. — Бессмертие половых элементов высших организмов. — Бессмертие клеточной души. — Существование естественной смерти у некоторых животных. — Естественная смерть у поденок (эфемер). — Потеря инстинкта самосохранения у взрослых эфемер. — Инстинкт жизни у стариков. — Инстинкт естественной смерти у человека. — Смерть старцев в библейские времена. — Перемена инстинктов у животных и человека.
После всего сказанного в предыдущей главе, я думаю, согласятся со мною, что в более или менее отдаленном будущем станет возможным изменить состояние старости. Из болезненной и отталкивающей, какова она теперь, старость обратится в физиологическую и выносимую. Добьются также большей долговечности сравнительно с настоящей. Но, возразят мне, к чему жить 100 или 120 лет вместо 70 или 80, если останется все та же ужасная перспектива неизбежного уничтожения смертью? Разве не было уже доказано Марком Аврелием, что «тот, кто умирает, достигнув крайнего предела жизни, нисколько не выигрывает сравнительно с тем, который умирает преждевременно?» Или еще, что «безразлично, наблюдать ли окружающее в течение ста или трех лет»? В этих изречениях не принимается в соображение качественная разница в оценке вещей в различные возрасты. Люди 25 и 50 лет не только различно рассуждают, но также и различно воспринимают внешние впечатления. Даже «взгляд на происходящее вокруг» у одного и того же человека меняется по мере его возраста. Молодые люди ценят впечатления, сравнивая их со своим идеалом, а так как последний всегда очень высок, то действительность не удовлетворяет их. Они требовательны и недовольны тем, что дает им реальный мир. Зрелые или более пожилые люди легче удовлетворяются, гораздо лучше сознавая действительную цену вещей. Как было уже развито в одной из предыдущих глав, молодые более склонны к пессимизму, чем старые.
Итак, оценка жизни меняется с возрастом. Меняется ли она и относительно смерти? Часто повторяли, что жизнь не что иное, как подготовка к смерти. Цицерон говорил, что «смолоду следует приучаться без ужаса глядеть на свой последний час: иначе — нет более покоя, так как несомненно, что мы должны умереть». Философия рассматривалась как искусство подготовляться к смерти.
Прежде чем указать на путь, который может избрать наука для разрешения задачи смерти, «этого последнего врага, который будет побежден», по выражению апостола Павла, надо познакомиться с тем, что она знает вообще о смерти.
Привыкли считать смерть чем-то столь естественным и неизбежным, что с давних пор на нее смотрят как на свойство, присущее всякому организму. Однако, когда биологи стали ближе изучать этот вопрос, они напрасно искали какого-нибудь доказательства этому мнению, принятому всеми за догмат.
Наблюдение низших животных, как инфузорий и других простейших, показывает, что они размножаются делением и в короткое время становятся необыкновенно многочисленными. Поколения следуют друг за другом и с большой быстротой без единого случая смерти. Напрасно стали бы искать хоть одного трупа в бесчисленном множестве кишащих инфузорий. Из этого легко наблюдаемого факта некоторые ученые, именно Бютчли и Вейсман, вывели, что одноклеточные существа бессмертны. Инфузория делится надвое; каждая половина тотчас дорастает и обновляется, чтобы снова размножиться тем же путем. Сложнее обстоит дело, когда деление производится одновременно на несколько частей, каждая из которых уносит часть материнского организма. Примеры такого способа размножения многочисленны. Так как животное сразу делится на целый ряд особей нового поколения, то индивидуальность первой особи исчезает. В этом случае можно было бы, как допускает это Гетте, предположить естественную смерть, без настоящего разрушения, без присутствия трупа.
Во всяком случае несомненно, что у низших существ нет естественной смерти, сколько-нибудь подобной той, которая наблюдается у высших животных или у человека. Думали, что истощение инфузорий после длинного ряда делений, истощение, требующее конъюгации двух особей, можно бы рассматривать как случай естественной смерти. Но мнение это не вяжется с обновлением, которое следует за этим совокуплением. Если совокупление не наступает, то это приводит к смерти истощенных инфузорий, но на такую смерть надо смотреть как на случайную, подобную смерти от голода.
Итак, теория бессмертия одноклеточных организмов почти общепринята. Но даже и среди животных, более высоко стоящих на лестнице живых существ, есть такие, у которых не наблюдается естественной смерти. Таковы животные, состоящие из нескольких органов и из большого количества клеток. Сюда относятся многие полипы и некоторые черви, а именно кольчатые. Между последними есть такие, которые очень усиленно размножаются делением (рис. 18). «В течение всего летнего времени, — говорит Эдмонд Перрье, — наидоморфные черви лишены половых органов, и кажется даже (еще не изданные наблюдения Мопа), что можно искусственно поддержать их в таком бесполом состоянии в продолжение нескольких лет, а быть может, и постоянно». Итак, случай этот смело можно привести в пример бессмертия, обязанного неисчерпаемой способности регенерации существа, которое, однако, довольно сложно по своему строению.
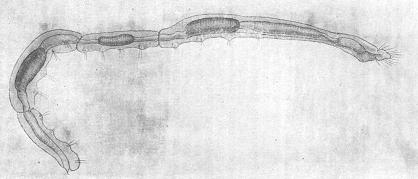 | |
|
Этих данных достаточно, чтобы показать, что естественная смерть не необходимо связана с организацией. Очень известный немецкий ботаник Нэгели высказал даже положение, будто в природе не существует естественной смерти. Он упоминает о деревьях, достигших нескольких тысяч лет и кончающих свое существование не естественной смертью или истощением сил, а вследствие какой-нибудь катастрофы.
Думают, что знаменитое драконовое дерево вильи Оротава на Тенерифе, которым так любовался Ал. Гумбольдт, жило несколько тысяч лет. Ствол его был дуплист, но гигантское дерево продолжало жить, пока не было опрокинуто бурей. Итак, нужно было грубое внешнее вмешательство, чтобы убить этот столь долговечный организм.
В одной из своих работ знаменитый американский биолог Жак Леб коснулся вопроса о естественной смерти, существование которой кажется ему недоказанным. Он наблюдал, что зрелые яйца неоплодотворенных морских звезд погибают через несколько часов после снесения. Леб считает эту смерть примером естественной смерти. Невозможно, однако, согласиться с этим мнением, потому что яйцо, не оплодотворенное вследствие отсутствия мужских элементов, можно сравнить с организмом, лишенным пищи и умирающим от голода.
Если в природе существует естественная смерть, то она должна была появиться на земле значительно позже первых организмов. Вейсман думает, что она развилась как полезное приспособление для жизни вида, т.е. «как уступка внешним условиям жизни, а вовсе не как абсолютная необходимость, имеющая основу в самой сущности жизни». Так как изношенный организм не годится более для размножения и для борьбы за существование, то Вейсман думает, что естественная смерть есть следствие принципа естественного подбора: она становится необходимой для поддержания силы вида. Но такое нововведение вполне излишне, так как ослабление состарившегося организма совершенно достаточно, чтобы устранить его в борьбе. Насильственная смерть должна была появиться с первых же шагов жизни на земле. Инфузории и другие низшие организмы, обладая принципиальным бессмертием, тем не менее ежеминутно должны были умирать от насилия: их пожирали более сильные существа. Невозможно, следовательно, видеть в естественной смерти, если она действительно существует, результат естественного подбора в пользу вида. Во внешнем мире естественная смерть должна встречаться очень редко ввиду частой насильственной смерти вследствие болезней или прожорливости врагов.
Правда, все статистики отмечают более или менее многочисленные случаи смерти от старости без видимой болезни. Часто очень истощенные старики не ощущают никакой боли и как бы тихо засыпают вечным сном, но вскрытие все же при этом обнаруживает более или менее серьезные повреждения органов. Итак, приходится предположить, что и здесь мы имеем дело с насильственной смертью, большею частью вызываемой заразными микробами.
Ввиду всех этих данных, вместо того чтобы принимать положение, будто естественная смерть вполне присуща организму, приходится искать действительных доказательств ее существования на земле.
Давно уже было указано на то, что естественной смерти подвержены одни элементы, служащие для индивидуальной жизни. Наоборот, клетки, обеспечивающие воспроизведение вида, одарены бессмертием, подобно одноклеточном организмам. Женское яичко превращается в зародыш и дает начало новому поколению, половые элементы которого становятся исходной точкой третьего поколения и т. д. Громадное большинство яичек и семенных тел умирает, но не естественной смертью, а вследствие вредных внешних влияний. Только незначительное меньшинство этих половых элементов бесконечно переживает в будущих поколениях.
Итак, можно утверждать на основании научных доказательств, что организм наш заключает вполне бессмертные элементы — яички и семенные тела. Так как клетки эти одарены самостоятельной жизнью и проявляют некоторые свойства, относящиеся к разряду психических явлений, то можно бы серьезно поставить вопрос о бессмертии души.
Наблюдение простейших, а именно инфузорий, указывает на очень сильную чувствительность этих одноклеточных существ. Они выбирают добычу, отличают живых инфузорий от мертвых, выслеживают себе подобных для совокупления, избегают опасностей, охотятся, — одним словом, обнаруживают целый ряд свойств, несомненно, относящихся к обширной группе психических признаков. Явления эти по сравнению с тем, что мы видим у высших животных, бесспорно, у инфузорий стоят на очень низкой стадии развития. Тем не менее можно вести речь и о душе простейших.
Одаренные бессмертием тела благодаря последовательному воспроизведению повторным делением, существа эти обладают также бессмертной душой. Только вследствие чрезвычайной первобытности этой души нам невозможно сколько-нибудь определенно судить о ней.
Так как и в человеческом теле тоже существуют бессмертные половые клетки, то опрашивается — обладают ли и они бессмертной душой? В настоящее время нельзя сомневаться в том, что яички и семенные тела одарены такой же чувствительностью, как и низшие организмы. Яички выделяют вещества, возбуждающие чувствительность семянных тел. Последние, руководимые особым родом обоняния, или химиотаксией, направляются к яичку и проникают в него. Иные вещества возбуждают чувствительность и подвижность семенных тел и притягивают их, другие — отталкивают их. Химиотаксия семенных тел впервые была доказана у тайнобрачных знаменитым ботаником Пфеффером. С тех пор убедились в чувствительности мужских клеток у нескольких растений и различных животных.
Яички и сперматозоиды, которым удается коньюгироваться, дают начало новому поколению и передают ему свою «клеточную душу», по терминологии Геккеля. Итак, душа эта действительно постольку же бессмертна, как и тело воспроизводительных клеток.
Совершенно верно, следовательно, что мы содержим в своем организме элементы, одаренные бессмертной душой; но, тем не менее, верно и то, что факт этот нисколько не обусловливает бессмертия нашей сознательной души. В одной из предыдущих глав было уже упомянуто о том, что мы не отдаем себе отчета в психических явлениях множества наших клеток, одаренных своей клеточной душой. Мы нисколько не ощущаем постоянной борьбы наших фагоцитов с вечно стремящимися наводнить нас микробами. Между тем фагоциты — чувствительные и подвижные элементы, обладающие душой постольку же, как и инфузории.
Женщина также не имеет ни малейшего ощущения тех многочисленных семенных тел, одаренных клеточной душой, которые проникают как в ее тело, так и в ее яички. Она не имеет даже никакой возможности воспринять более развитую душу зародыша. Ребенок до рождения обладает гораздо более многочисленными и совершенными психическими свойствами, чем половые клетки. Он способен на некоторые ощущения и движения. В последние месяцы беременности ребенок обладает уже осязанием, вкусом и до известной степени зрением. А между тем душа его никоим образом не может быть воспринята матерью. Последняя не в состоянии даже чувствовать, заключает ли она в своей утробе одну или две таких зачаточных души. Итак, бессмертие клеточной души не имеет никакого отношения к задаче смерти, которая одна интересует нас.
Часто высказывали мнение, будто бы бессмертием обладают одни воспроизводительные клетки животных и человека; все же другие элементы их организма — смертны. Если они избегнут насильственной, случайной смерти, то кончают свое существование естественной смертью. Настаивали, следовательно, на контрасте между клетками индивидуальной жизни — смертными — и клетками видовой жизни — бессмертными. Однако в тех случаях, когда не половые, а другие элементы организма способны воспроизводиться, нет никакой причины отрицать их бессмертие. Когда полип или червь размножается делением, то целое множество его клеток содействует образованию нового существа, так же точно, как и делящаяся надвое инфузория. Клетки эти, следовательно, постольку же бессмертны.
Бессмертные животные встречаются только среди низших беспозвоночных. Чем выше поднимаемся мы по лестнице существ, тем реже наталкиваемся на явления регенерации.
В то время как червей, например земляного червяка, можно разрезать на несколько кусков, каждый из которых способен развиться в целую особь, — мягкотелые возобновляются только отчасти. У улитки вырастают ее отрезанные щупальцы; но если разрезать ее самое на несколько частей, то она неминуемо обрекается этим на смерть. У позвоночных одни низшие представители, как, например, тритон и саламандра, могут воспроизводить хвост и ноги. У них, как и у мягкотелых, не может более быть и речи о размножении делением. У высших позвоночных, птиц и млекопитающих, регенерация происходит в очень узких пределах. Ни хвост, ни ноги никогда не вырастают вновь.
 | |
|
Из этого можно заключить, что прогресс в организме животном развился на счет воспроизводительной способности элементов и тканей. У наивысших животных наблюдается еще возобновление некоторых органов, например печени. Но те же животные обладают клетками, способными возобновляться только в исключительных случаях. Это именно нервные клетки, наиболее благородные и совершенные элементы организма. Развившись однажды во время зародышевой жизни, они в течение всего существования не размножаются более и не возобновляются. Достигнув наивысших свойств, каковы психические отправления, они совершенно потеряли отличительные качества бессмертных клеток, т.е. способность делиться.
Если существуют элементы, неизбежно обреченные на естественную смерть, то следует искать их среди клеток нервных центров.
Нельзя сомневаться в существовании естественной смерти в животном мире, но она, бесспорно, встречается редко. Лучшим примером ее служат замечательные насекомые, всем известные под именем поденок. Кто в течение летних месяцев не видел роев этих крылатых, грациозных и изящных насекомых, (рис. 19), летающих вокруг фонарей? Поденки выходят из воды, где живут их личинки — маленькие насекомые, снабженные тремя парами ног и питающиеся очень мелкими органическими остатками, находящимися в пресной воде. Эти личинки вовсе не охотятся за живьем и должны защищаться от своих многочисленных прожорливых врагов, убегая от них. Они долго живут (иные из них по 2 и 3 года) в иле рек для того, чтобы затем быстро превратиться в крылатое насекомое. В окрестностях Парижа рыбакам хорошо известен под названием «манна» род поденок (Palingenia virgo), выходящих из глубины Сены или Марны после заката солнца. Очень кратковременно летают они большими роями, подобно крупным хлопьям снега, когда он внезапно начинает выпадать (рис. 20). Полет «манны» длится час или два, после чего насекомые падают в истощении, скопляясь часто в большом количестве. Они направляются к свету, и рыбаки собирают их вокруг ламп фонарей, для того чтобы воспользоваться ими как приманкой для рыбы. Жизнь этих насекомых: в окрыленном состоянии действительно эфемерна, так как длится никак не более нескольких часов. Весь их организм указывает на краткость их существования. В то время как у личинок хорошо развиты органы жевания, служащие им для пожирания: пищи, у крылатых насекомых — одни зачатки этих органов. Поэтому они не в состоянии питаться, что явно доказывает приспособление их к очень краткой жизни. Немногие часы, прожитые ими в воздухе, предназначены для любви. Тотчас по выходе из воды самцы и самки эфемер совокупляются и немедленно кладут комки яиц, падающих в воду. Через несколько недель из последних вылупляются молодые личинки.
Вся жизнь и организация взрослых поденок указывает нам на то, что мы имеем здесь дело с естественной смертью. Последняя наступает не потому, чтобы поблизости не было пищи для этих насекомых или потому, чтобы они не находили вокруг себя чего-нибудь необходимого для их существования, но вследствие того, что они рождаются нежизнеспособными, лишенными органов, без которых жизнь невозможна.
Придя к тому выводу, что естественная смерть действительно существует, было бы крайне важно изучить ее механизм, насколько позволяет это современное положение науки. Для того чтобы исключить всякую мысль о насильственной смерти, надо было узнать, не становятся ли вышедшие из воды поденки жертвою какой-нибудь очень скоротечной заразной болезни? Эта гипотеза, хотя и маловероятная, требует все же проверки. Наблюдается множество насекомых, которые умирают в очень, короткое время вследствие наводнения паразитических плесеней, вызывающих настоящие эпидемии. Все мы видели, особенно осенью, мух, окруженных маленьким белым налетом и приклеенных им к стеклу окна, где они и умирают. Ввиду большого количества этих насекомых, умирающих одновременно, тоже можно было бы подумать, что мы имеем дело с естественной смертью. А между тем здесь просто заразная смертельная болезнь, причиненная паразитическим грибком.
 | |
|
Что касается эфемер, то всякое предположение об острой эпидемии должно быть исключено. Исследования, сделанные нами по этому поводу, доказали обратное. У умирающих поденок не развивается никаких микробов, которым могла бы быть приписана смерть. Последнюю, следовательно, приходится считать естественной, зависящей от организма, от самого внутреннего существа этих насекомых. Среди клеток, входящих в состав тела поденок, нет недостатка в фагоцитах. Не им ли следует приписать быструю смерть насекомых, которая может быть вызвана опустошениями фагоцитов в органах и в благородных тканях? Тщательное микроскопическое исследование не обнаружило никаких доказательств в пользу такой гипотезы. Как раз наоборот. Все органы, сохраненные при наилучших технических условиях, представляют свою нормальную структуру. Мозг, нервные центры вообще, как и мускулы и другие органы, не обнаруживают никаких следов того разрушения фагоцитами, на которое было указано как на общее правило при старческой дегенерации. Поэтому в этом несомненном примере естественной смерти не может быть вопроса о пагубном вмешательстве макрофагов.
Некоторые ученые полагают, что столь быстрая смерть поденок и иных насекомых объясняется истощением, претерпеваемым ими вследствие быстрой кладки яиц и выделения мужских элементов. При этом могло бы происходить нечто подобное послеоперационному потрясению, вследствие которого иногда погибают оперированные больные. Гипотеза эта, однако, недопустима; рядом с поденками, совершившими половое отправление, так же внезапно умирает множество вовсе не оплодотворявших самцов. У эфемер всегда значительно большее количество самцов, чем самок; многие из первых поэтому не могут быть подвержены половому потрясению, так как они не выпоражнивали вовсе своих органов воспроизведения, что не мешает им, однако, умирать с остальными.
В этом примере естественной смерти нельзя было установить, одновременно ли умирают все ткани. Весьма вероятно, однако, что первыми умирают клетки нервных центров, что обусловливает смерть остального организма. Вопрос этот требует еще подробного изучения.
Смерть настигает эфемер в любовное время, в минуту удовлетворения их полового инстинкта. Было бы очень интересно знать, что могут ощущать эти существа, умирая во время акта воспроизведения.
Так как, само собой разумеется, невозможно вполне решить этот вопрос, приходится удовлетворяться несколькими фактами, относящимися к нему.
Все эфемеры, не только те, которые живут незначительное число часов, но даже живущие по нескольку дней (как, например, Хлоэ, Chloё) (рис. 21) очень легко дают себя изловить. Их незачем схватывать невзначай или ловить сеткой, как мух, ос и других насекомых. Поденок можно просто взять пальцами, так как они не обнаруживают никакого сопротивления, никакого желания улететь или бежать, несмотря на присутствие двух или четырех крыльев и шести ног. Факт этот не единственный среди насекомых. Многие другие так же легко дают себя поймать. Таковы крылатые муравьи, травяные вши и т. д. Но в то время, как последние в течение всей жизни никогда не избегают врагов, поденки в личиночном состоянии очень пугливы. Когда их хотят поймать среди водяных растений, где они прячутся, они тотчас чувствуют приближение направленной на них трубочки и очень быстро убегают. Иногда ловля этих насекомых требует большой ловкости и терпения. Их жизненный инстинкт, чувство самосохранения, обнаруживается поспешным бегством. Между тем очевидно, что у взрослой поденки инстинкт этот исчезает. Если трогать ее, то иногда она удаляется, но не улетает, несмотря на большое развитие органов движения и слабый вес тела, который уменьшен, кроме того, присутствием воздуха, наполняющего кишечник вместо пищи. Всего чаще, если тронуть эфемеру, то она, даже не отдаляясь, без сопротивления дает себя взять.
В этом отношении интересно отметить факт, который мне пришлось наблюдать недавно. Из летающих эфемер рода Chloё самцы дают себя поймать без малейшего сопротивления, между тем как самки, тотчас по приближении к ним, отлетают и вовсе не легко даются в руки. Различие это легко объясняется тем, что Chloё живородящи и несут в себе зародышей в течение нескольких дней, около недели, между тем как самцы тотчас по вылуплении из куколки готовы к совокуплению и очень скоро заканчивают весь свой цикл жизни.
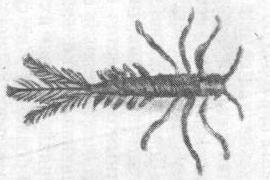 | |
|
Мы не имеем никакого права утверждать, чтобы жизненный инстинкт личинки уступил место у взрослой поденки инстинкту естественной смерти; но приходится допустить, однако, что у нее жизненный инстинкт исчез. Невозможно объяснить несопротивление окрыленных эфемер недостаточностью каких-нибудь органов чувств. В самом деле: они не только сохраняют те глаза, которыми обладали и в личиночном состоянии, но самцы приобретают еще пару огромных глаз, нужных им для отыскивания самки во время быстрого полета в сумерках. Органы осязания также очень развиты у поденок во всех возрастах. И, однако, несмотря на это высшее развитие, взрослые эфемеры остаются равнодушными перед неприятелем.
Вовсе не случайно пришлось нам выбрать лучший пример естественной смерти именно среди насекомых. Этот отряд животных отличается большой прочностью клеточных элементов и соответственным отсутствием обновлений тканей. В этом отношении насекомые походят на высших животных и человека. Нервные клетки их очень обособлены и способны выполнять наиболее высокие функции, среди которых первое место занимают психические. Но хорошо одаренные с функциональной точки зрения элементы эти неспособны возобновляться. Было сделано очень много опытов в этом направлении и оказалось, что, в то время как у холоднокровных позвоночных головной и спинной мозг с их нервными клетками способны возобновляться, у млекопитающих только в исключительных случаях наблюдается некоторая степень регенерации клеток нервных центров.
Поэтому всего скорее можно бы ждать примеров естественной смерти у животных, стоящих на высших ступенях органического мира, как у человека. Но здесь мы не находим столь доказательного примера, как среди насекомых, у поденок. Уже было упомянуто выше, что по крайней мере огромное большинство случаев смертей от старческого истощения, принимаемых за естественную смерть, надо относить на счет случайных причин — особенно на счет заразных болезней стариков (воспаление легких, почек и т. д.). Тщательное исследование тканей подтверждает этот вывод.
Частое разрушение благородных клеток фагоцитами точно так же указывает скорее на насильственный процесс, чем на естественную смерть, подобную той, которая наблюдается у взрослых поденок.
Итак, естественная смерть у человека скорее потенциальна, чем действительна. Старость, не будучи физиологическим явлением, представляет болезненные признаки. При этих условиях неудивительно, что она приводит только к случайной смерти. Вероятно, однако, что и естественная смерть все же иногда наступает в очень старом возрасте.
Часто старались определить границу человеческой жизни. При этом Флуренс основывался на продолжительности роста. Предположив, что период этот соответствует 1/5 всей жизни, он выводит, что последняя у человека должна длиться 100 лет. А так как 100-летние люди редки, то все смертные случаи до этого возраста надо считать преждевременными и случайными. Но правило Флуренса произвольно, и ничто не доказывает его справедливости. Вероятно, в роде людском предел жизни не так постоянен, как у поденок, и поэтому невозможно ограничить его какой-нибудь цифрой. В большинстве случаев он должен был бы быть значительно выше 100 лет и только в исключительных случаях мог бы спускаться ниже этой границы. Относительно возраста естественной смерти должны существовать такие же колебания, как наблюдаемые при половой зрелости. Хотя наступление последней подчинено некоторым правилам, тем не менее наблюдаются большие или меньшие отклонения относительно среднего возраста его появления.
Патологический характер человеческой старости должен был нарушить также и все, касающееся естественной смерти. Поэтому пока совершенно невозможно дать себе отчет в особенностях последней. Как известно, некоторые органы и ткани могут сохранять жизненность несколько времени после смерти. Даже через 30 часов после смерти от заразной болезни сердце может еще жить и сокращаться некоторое время. Исследования последних лет, произведенные главным образом Каррелем, показали, что некоторые ткани млекопитающих могут быть сохранены живыми в течение двух полных месяцев. Белые кровяные шарики, семенные тела и мерцательные волоски трупа могут еще двигаться. То же ли наблюдается и в столь редких случаях естественной смерти? Одно будущее разъяснит это.
Наиболее важный вопрос, связанный с естественной смертью, — следующий. Сопровождается ли она у человека исчезновением жизненного инстинкта и появлением нового, инстинкта смерти? Наблюдается ли в этом случае аналогия с естественной смертью у поденок? Легко понять, что на это нельзя ответить с полной точностью.
Старость есть, так сказать, извращенное явление; поэтому лица, приближающиеся к возрасту естественной смерти, только в совершенно исключительных случаях сохраняют достаточную полноту умственных способностей. Мне пришлось видеть столетнюю женщину, помнящую еще несколько событий своей молодости. Она резко высказывала желание жить; но умственные способности ее были серьезно задеты. Так, мозг ее при вскрытии представлял сильную дегенерацию нервных клеток на пути разрушения макрофагами.
Мне удалось получить довольно подробные сведения относительно столетней женщины, жившей в Руане в 1900 г. Стоило бросить взгляд на ее портрет, чтобы убедиться в том, что она не владела более полнотой своих умственных способностей. Во многих отношениях она была инвалидом. Знаменитый химик Шеврейль, умерший в возрасте 103 лет, точно так же не обнаруживал никакого желания умереть; он очень желал жить, но умственные способности его сильно ослабели.
Я наблюдал 100-летнюю старуху, день рождения которой торжественно праздновался в Сотвиле близ Руана. Несмотря на то, что в физическом отношении она еще довольно хорошо сохранилась, ее умственные способности настолько ослабели, что не может быть и речи о развитии у ней новой особенности, каков инстинкт естественной смерти. Заболев несколько лет назад воспалением легких, она обнаруживала несомненное желание выздороветь и жить.
Вышеприведенные случаи составляют общее правило. Но бывают исключения, требующие особенного внимания. В упомянутой в шестой главе статье Токарского о страхе смерти он приводит пример старухи, державшей следующую речь: «Если бы ты прожил столько же, как я, ты бы понял, что можно не только не бояться смерти, но даже желать ее и так же ощущать потребность умереть, как ощущать потребность спать». В этом глубоком возрасте появилось новое чувство, подобное потребности сна и непонятное менее старым людям. Очевидно, мы имеем здесь дело с инстинктом естественной смерти, развившимся у 100-летней старухи, достаточно сохранившей свои психические способности.
Я очень желал быть свидетелем такого замечательного инстинкта у кого-нибудь из того значительного числа старых людей, которое мне удалось наблюдать. Но все, на кого мне указывали, как на будто бы имеющих его, при ближайшем исследовании оказывались совершенно иначе настроенными. Одни были старые, больные, уставшие страдать; они предпочитали смерть своей страдальческой жизни, но еще более желали бы выздороветь, чтобы спокойно жить. Когда им говорили о возможности выздоровления, они обнаруживали явные признаки удовольствия и проникались надеждами.
Произведенные мною исследования в приютах стариков дали одни отрицательные результаты в этом отношении. Никто в них не проявлял ни малейшего инстинкта смерти. Зато через посредство доктора Фовель я узнал о факте, который может быть помещен рядом с наблюдением Токарского. Дело касается старухи, здоровье и средства которой были вполне удовлетворительны и которая перед смертью обнаруживала твердое желание умереть; она высказывала его совершенно в таком же духе, как и столетняя старуха Токарского. Только Фовель имел дело с женщиной, достигшей всего 85 лет. Если, что весьма вероятно, это — второй пример инстинкта естественной смерти, то приходится заключить, что он может развиваться в очень различные возрасты, подобно половому инстинкту. Будапештские газеты воспроизвели письмо 100-летнего старца Иосифа Решковского, письмо, в котором он говорит, что «жизнь ему страшно надоела, что он выносил ее в течение более века, но с него довольно, так как смерть не приходит, то он предпочитает лишить себя жизни». Действительно, он покончил самоубийством.
В своих поисках примеров инстинкта смерти мы обратились к довольно обширному сборнику Лежонкура. Но сведения этого автора относятся преимущественно к образу жизни столетних людей и очень неполны в том, что относится к их последним мгновениям.
В библии упоминается о часто встречавшихся в те отдаленные времена людях, которые достигали столетнего возраста вполне хорошо сохранившимися. В библии встречаются также некоторые указания, которые могут быть истолкованы в смысле инстинкта естественной смерти. Вот как описана смерть некоторых патриархов. Жизнь Авраама длилась 175 лет. Утратив силы, он умер в счастливой старости, старцем и насыщенным своими днями. Исаак жил 180 лет. Утратив силы, он умер стариком и насыщенным жизнью. Иов жил 140 лет. Он увидал сыновей своих и сыновей их до четвертого поколения. Затем он умер старым и насыщенным жизнью. Вероятно, что чувство, выражаемое насыщением жизни, так странно звучащим для нас, — не что иное как инстинкт естественной смерти, развитой у достаточно хорошо сохранившихся стариков, достигших 140—180 лет. Из описания других смертей следует, что это библейское выражение не есть простая формула, относящаяся к смерти знаменитых мужей. Так, об Измаиле говорится, что он жил 137 лет, после чего он утратил силы и умер и был взят к своим народам. Иаков жил в Египте 17 лет. Жизнь его длилась 147 лет. Аарону было 123 года, когда он умер на горе Гор. Моисей умер 120 лет, зрение его не ослабело, и бодрость не иссякла.
Во всех этих примерах речь идет о старцах, из которых всего один достиг 140-летнего возраста, когда начал появляться инстинкт смерти.
Нам должно казаться совершенно удивительным и почти невероятным, что у человека может развиться инстинкт естественной смерти, — до того проникнуты мы совершенно обратным жизненным инстинктом. Из всего приведенного в шестой главе становится несомненным, что как желание жить, так и страх смерти — не что иное, как проявление инстинкта, очень глубоко укорененного в человеческой природе. Он сравним с инстинктом голода, жажды, сна, движений, половой и материнской любви. Инстинкты эти могут переходить из крайности в крайность.
Всем известны те преданность и забота, которые проявляются самками относительно их потомства. Нет жертвы, на которую не были бы способны матери для охранения жизни и благоденствия своих детенышей. Это и есть проявление материнского инстинкта, одного из самых сильных, который можно наблюдать. А между тем такая нежная и преданная любовь длится только пока детеныши беспомощны. Как только они начинают быть самостоятельными, привязанность матери обращается в равнодушие и даже в ненависть и враждебность.
Те же матери вновь ощущают нежность к своему новому поколению детенышей, так что происходит периодическое изменение материнского инстинкта.
Новорожденный ребенок инстинктивно наслаждается женским молоком, которое кажется еще единственной в мире вкусной пищей. При первом проявлении своих чувств он обнаруживает полное удовольствие во время сосания. Но инстинкт этот сохраняется только в период кормления грудью. Как только ребенок начинает употреблять всякую другую пищу, он становится равнодушным к женскому молоку и кончает тем, что ощущает даже род отвращения к нему, которое может длиться в течение всей остальной жизни. Большинство взрослых людей, которым я предлагал женское молоко, не хотели даже попробовать его, — таким отвратительным казалось оно им. А между тем вкус его сам по себе вовсе не имеет ничего неприятного. Здесь также мы имеем дело с временным и изменчивым инстинктом.
Детям часто случается наесться слишком много каких-нибудь сластей, после чего они не только не прельщают их больше, а, наоборот, вызывают глубочайшее отвращение, которое может сохраниться на всю жизнь.
Говорят, что когда в кондитерскую поступают дети в обучение, то вначале им позволяют есть сколько угодно сластей. Через короткое время у них развивается глубокое отвращение к этим вещам, столь сильно прельщавшим их вначале.
Как мать, обожающая своих детей, так и ребенок, обожающий сласти, не легко поймут, как может случиться, чтобы мать возненавидела свое потомство, а подмастерье кондитерской ощущал отвращение при виде сластей.
Точно так же человечество, столь сильно жаждущее жить, легче поверит в бессмертие, чем в переход жизненного инстинкта в инстинкт смерти. Последний, очевидно, в потенциальной форме, гнездится в природе человеческой. Если бы цикл жизни людской следовал своему идеальному, физиологическому ходу, то инстинкт естественной смерти появлялся бы своевременно — после нормальной жизни и здоровой, продолжительной старости.
Вероятно, этот инстинкт должен сопровождаться чудным ощущением, лучшим, чем все другие ощущения, которые мы способны испытывать. Быть может, тревожное искание цели человеческой жизни и есть не что иное, как проявление смутного стремления к ощущению наступления естественной смерти. В нем должно быть нечто сходное с неопределенными чувствами молодых девственниц, предшествующими настоящей любви.
В действительности жизнь наша с самого начала претерпевает пагубное влияние дисгармоний человеческой природы. Влияние это становится все большим и большим в течение нашего существования и приводит к расстроенной патологической старости. Нет ничего удивительного в том, что при этих условиях люди не ощущают ни желания состариться, ни инстинкта смерти. Старики, несмотря на свою привязанность к жизни, не в состоянии ощущать всей ее прелести и умирают со страхом, не узнав, что такое инстинкт смерти.
Их можно сравнить с женщинами, вышедшими замуж раньше развития своей половой потребности и умирающими во время родов, не зная, что такое настоящий любовный инстинкт. В прежние времена число таких женщин было значительно. В некоторых частях Абиссинии девушки выходят замуж очень рано, не достигнув должного физического развития. По Гассенштейну, почти треть (30%) этих молодых женщин умирают во время родов. Они покидают жизнь, не зная хорошенько, что такое настоящий половой инстинкт.
Успехи культуры вообще и медицины в очень значительной степени уменьшили число таких женщин.
Надо надеяться, что наука достигнет таких же успехов по отношению к инстинкту естественной смерти.
С прогрессом науки все более и более увеличится число людей, доживающих до нормального появления этого инстинкта.
Общий обзор и выводы |
Дисгармонии человеческой природы составляют главный источник наших бедствий. — Научные данные о происхождении и предназначении человека. — Цель человеческого существования. — Трудности, на которые наталкивается наука при изучении этой задачи. — Что такое прогресс? — Затруднение подвести весь род людской под формулу прогресса и нравственности. — Инстинкт жизни и естественной смерти. — Применение к практической жизни принципов, изложенных в этой книге.
Человек, происшедший от какой-нибудь человекообразной обезьяны, унаследовал организацию, приспособленную к условиям жизни совершенно иным, чем те, в которых ему приходится жить. Одаренный несравненно более развитым мозгом, чем его животные предки, человек открыл новый путь к эволюции высших существ. Такое быстрое изменение природы привело к целому ряду органических дисгармоний, которые тем сильнее давали себя чувствовать, что люди стали умнее и чувствительнее. Отсюда — целая вереница несчастий, которые бедное человечество старалось устранить всеми доступными ему средствами.
Дисгармонии в половой функции привели к употреблению часто весьма странных мер с целью уменьшить это зло. Но величайший разлад человеческой природы заключается в патологической старости и в невозможности дожить до инстинкта естественной смерти. Эта дисгармония послужила поводом к наивному и ложному представлению о бессмертии души, о воскресении тела, равно как и ко многим другим догматам, которые выдавались за истины, переданные откровением.
Но человеческий ум, направляясь постоянно вперед, восстал против этих попыток первобытной мысли.
Сознавая бессилие человечества восстановить столь желанную гармонию, многие примирились с пассивным фатализмом и стали даже думать, что жизнь человеческая есть род иронии судьбы и составляет ложный шаг в развитии живых существ. Точная наука, развиваясь медленно, но в определенном направлении, попыталась, наконец, взять дело в свои руки. Подвигаясь постепенно и прогрессируя от простого к сложному и от частного к общему, она установила ряд истин, которые стали общепринятыми.
Несчастное человечество ставило науке вопрос за вопросом и теряло терпение перед медленностью научных успехов. Оно провозглашало суетными и мало интересными те задачи, которые науке удавалось разрешать. Временами оно предпочитало даже вернуться назад и обманывать себя прекрасными иллюзиями, которые предлагали ему религиозные учения и философские системы.
Но наука, уверенная в руководствующих ею методах, спокойно продолжала свое дело. Мало-помалу она сочла себя вправе ответить на некоторые поставленные ей вопросы.
«Откуда происходим мы?» — постоянно спрашивали ее.
Наука отвечала, что человек есть род обезьяньего выродка, одаренного большим умом и способного пойти очень далеко. Мозг его выполняет весьма сложные и совершенные отправления, значительно высшие, чем у его животных предков, но несовместимые с существованием бессмертной души.
«Куда идем мы?» — вот вопрос, всего более занимающий человечество, так как ему менее важно знать свое происхождение, чем свое предназначение. Есть ли смерть полное уничтожение, или же она только начало новой, бесконечной жизни? Если не это последнее ждет нас, то как примириться с неизбежностью смерти?
Наука не может допустить бессмертия сознательной души, так как сознание есть результат деятельности элементов нашего тела, не обладающих бессмертием. Это последнее свойственно лишь очень низко стоящим существам, которые постоянно восстановляются посредством деления и сознание которых еще очень неразвито.
Так как смерть представляется нам полным уничтожением, то ее неизбежность становится невыносимой вследствие условий, при которых она настигает нас. Она является в то время, когда человек не закончил своего нормального развития и когда он вполне обладает жизненным инстинктом.
С тех пор, как человек поднялся несколько выше своих непосредственных, обыденных интересов, он начал спрашивать себя, имеет ли жизнь человеческая определенную цель и какова она. Не находя ее большею частью, он дошел до того, что стал утверждать, будто существование его — простая случайность и что не следует даже искать его цели.
Ввиду этого он приходил к угнетающим и пессимистическим заключениям. Человечество очутилось в положении отрока, который до появления полового чувства спрашивал бы себя, какова цель его половых органов? Так как они в своей половой функции ни к чему не служат ему, он легко мог бы заключить, что они бесполезны и даже нелепы.
Вследствие дисгармонии своей природы человек не следует нормальному развитию. Первая часть его жизни проходит еще без особых отклонений; после зрелого возраста развитие наше более или менее извращается и кончается преждевременной и патологической старостью и слишком ранней и неестественной смертью.
Не должна ли бы скорее всего цель человеческого существования заключаться в завершении полного физиологического цикла жизни с нормальной старостью, приводящей к потере жизненного инстинкта и к появлению инстинкта естественной смерти?
В пессимистическом лагере часто о смерти шла речь как о настоящей цели человеческого существования. Так, Шопенгауэр говорит: «Поистине, на смерть следует смотреть как на настоящую цель жизни; в минуту ее появления решается все раньше подготовленное и воспринятое в течение всей жизни».
Та же мысль выражена и в следующих стихах Бодлера.
(Смерть утешает — увы! — и заставляет жить; Она — цель жизни и единственная надежда, Которая, как элексир, нас бодрит и опьяняет и дает смелость итти до вечера).
На нормальный конец, наступающий после развития инстинкта смерти, действительно можно смотреть как на конечную цель человеческого существования. Но прежде чем дойти до этого, надо пережить целую нормальную жизнь, которая также должна быть удовлетворенной. Познание настоящей цели существования значительно облегчает эту задачу, указывая нам на поведение, которого надо держаться в течение всей жизни.
В первой главе читателю представлен был общий обзор мнений относительно этого вопроса. С первых же попыток рационального обоснования нравственности старались найти основу эту в человеческой природе, перед которой многие преклонялись. Учения, основывавшие правила поведения на других началах, считали, напротив, природу человеческую в корне извращенной. Наука открыла нам, что человек, происходя от животного, имеет в своей природе как хорошие, так и дурные свойства и что именно последние делают существование наше столь несчастным. Но природа людская изменяема и может быть переделана на пользу человечества.
Нравственность, следовательно, должна основываться не на извращенной человеческой природе, какова она теперь, но на идеальной, т.е. такой, какой должна она стать в будущем. Прежде всего следует попытаться восстановить правильную эволюцию человеческой жизни, т.е. превратить дисгармонию ее в гармонию (ортобиоз). Так как одна наука способна решить подобную задачу, то человечество обязано давать ей возможность выполнить ее. Между тем даже в очень передовых странах наука далека от такого идеала. Она на каждом шагу наталкивается на многочисленные препятствия, значительно замедляющие ее успехи.
Наука не пользуется в современном обществе заслуженным ею уважением и ее недостаточно преподают юношам.
Улучшение человеческой природы прежде всего требует глубокого знания ее. Как возможны попытки изменить наличную, в высшей степени патологическую старость в физиологическую и нормальную, если нам недостаточно известен ее внутренний механизм? А между тем из-за глубоко укорененных предрассудков очень трудно добыть органы умерших стариков. Вскрытия окружены часто неопреодолимыми препятствиями. Во Франции обязательные правила «не допускают вскрытий ранее 24 часов после смерти». Кроме того, они могут быть сделаны, только если тело не вытребовано «родственниками в восходящей и нисходящей прямой линии или супругами, братьями, сестрами, племянниками». Помимо родных, еще существуют общества взаимопомощи, которые также могут вытребовать труп и воспрепятствовать вскрытию его. Когда же последнее разрешено, то оно «должно служить исключительно для установления научных фактов и никогда не должно идти далее этого и переходить в изувечивание путем удаления органов или приготовления анатомических препаратов, какой бы ни был интерес, представляемый этими органами или препаратами» (циркуляр директора Assistance publique, 20 янв. 1900 г.). При этом понятны затруднения, на которые наталкиваешься, желая изучить старческую дегенерацию человека и стараясь найти средства помешать ей.
На затруднения наталкиваешься даже при добывания старых животных. Предпочитают лучше без всякой нужды держать их до смерти и затем хоронить их трупы, чем посвятить их научному исследованию, которое может быть столь полезным для человечества.
Коль скоро мы пришли к тому выводу, что мистические и метафизические системы не могут разрешить задач человеческого счастья и смерти и что одна точная наука способна выполнить это, то оказывается необходимым устранять препятствия, мешающие ее успехам. Исправление дисгармоний человеческой природы с помощью научных методов представляется тем более возможным, что в былые времена старость была физиологичнее и смерть естественнее.
Подобно тому, как изучение человеческой природы позволяет определить истинную цель нашего существования, так же точно разъясняет оно и значение истинной культуры и истинного прогресса.
Из предыдущих глав мы видели, что философы указывают на движение человечества к культуре и прогрессу. Но что подразумевают они под этими двумя словами? Старались, сколь возможно ясно, определить их, и первый из современных философов — Герберт Спенсер посвятил этому специальный труд. Он разобрал явления, которые считает прогрессивными, сначала в неорганическом мире, затем в мире животных существ и, наконец, в роде человеческом. Он считает прогрессивными изменениями только те, «которые непосредственно или косвенно клонятся к увеличению общего блага, и только ввиду этого и надо считать их прогрессивными». Чтобы определить явления, составляющие прогресс, Герберт Спенсер считает необходимым параллельно проследить их как во внечеловеческом, так и в человеческом мире. Всюду, по его мнению, прогресс характеризуется превращением однородных явлений в более сложные; происходит постоянное обособление, будь это в мире планет, в эмбриональном развитии или в животных и человеческих обществах. Но обособление это не исчерпывает всего прогресса: в него входит в значительной степени превращение неопределенного состояния в гораздо более определенное. Герберт Спенсер отождествлял прогресс с эволюцией, которая, по его мнению, «есть интеграция вещества, сопровождаемая рассеянием движения, в то же время материя из однородной, неопределенной и несвязной переходит в разнородную, связную, при этом сдержанное движение претерпевает сходное превращение». Формула эта хочет обнять слишком много явлений, что делает ее недостаточно определенной, особенно в приложении к человеческим явлениям. Обособление не составляет само по себе всего прогресса. Приходится спросить себя, где предел его и как должно оно измениться в каждом данном случае.
Применение этой теории эволюции и прогресса заставляет Герберта Спенсера в его сочинении об основах нравственности определить последнюю как стремление к жизни сколь возможно полной и продолжительной. Как видно из его доводов, он отождествляет полноту со сложностью. Цивилизация является осуществлением прогресса сравнительно с первобытной жизнью. «Цивилизованный человек питается правильнее, соответственно появлению и степени аппетита; пища его значительно выше качественно, она не загрязнена, гораздо разнообразнее и лучше приготовлена». Такое же обособление замечается в одежде, в жилищах и т. д. По Герберту Спенсеру, весь этот прогресс должен служить истинному благу, т.е. полноте и продолжительности человеческой жизни.
Однако легко убедиться в том, что такое понятие о прогрессе неточно; то же относится и к определению цели существования. Если столь резкое усложнение жизненных условий цивилизованных народов действительно есть лучшее средство к достижению счастья, то нет надобности останавливаться на этом пути. Наоборот, если, как я думаю, настоящий прогресс заключается в устранении дисгармоний человеческой природы и в установлении физиологической старости с последующей естественной смертью, то условия его сразу изменяются и определяются.
Слишком большая сложность жизни современных цивилизованных народов для Герберта Спенсера является признаком прогресса; по-моему же, это неверно. Спенсер говорит о пище, ее разнообразии и изготовлении. Несомненно, что сложность ее вредна с точки зрения физиологической старости и что более простая пища менее цивилизованных народов полезнее. Нам незачем излагать здесь кулинарную гигиену; достаточно сказать, что большинство утонченных блюд, употребляемых в богатых домах, гостиницах и ресторанах, очень неблагоприятно раздражает органы пищеварения и выделения. С этой точки зрения истинный прогресс заключается в устранении современной кухни и в возврате к простой еде наших предков. Одно из условий, позволивших евреям библейского периода обладать более здоровой и продолжительной жизнью, чем цивилизованные народы, — это, конечно, большая простота их пищи. Истинная гигиена не согласна с утонченным кулинарным искусством; точно так же не одобряет она слишком большую дифференцировку в современных одеждах и жилищах. Итак, прогресс заключается в упрощении многих сторон жизни цивилизованных народов.
Роскошь, сделавшая людям так много зла, вполне входит в формулу перехода «от неопределенной однородности к определенной разнородности». Основой этой роскоши служит не общий закон мирового развития, а гораздо скорее воззрение на жизнь совершенно иное, чем то, которое считает целью существования восстановление нормального цикла человеческой жизни.
Очень может быть, что один из древнейших источников мировоззрения, приведшего к такой роскоши, находится еще в книге Экклезиаста. Придя к тому заключению, что «где изобилие знания, там изобилие горя», и «познав из всего сотворенного богом, что человек не может узнать причины всего совершающегося под солнцем, и что, если он ищет узнать ее, он не найдет ее, и что, если мудрец даже и говорит, что знает ее, все же он не разыщет ее», Соломон проповедует следующие правила поведения: «Иди же и ешь хлеб твой с радостью и весело пей вино свое, потому что богу приятны дела твои. Да будут одежды твои всегда белы и голова твоя благовонна. Наслаждайся всеми днями твоей суетной жизни с любимой женщиной, данной тебе под солнцем на все дни твоей суетности; потому что таков удел твой в жизни, должный тебе за работу, которую ты творишь под солнцем. Делай по мере сил своих все, что можешь делать; потому что в могиле, куда ты направляешься, нет ни дел, ни речей, ни знания, ни мудрости».
Мудрость эта поучает, что надо сколь возможно более наслаждаться жизнью, так как человек неспособен разрешить задачи о цели своего существования. Учение это сделалось руководящим и привело к жизненной организации, которая все прогрессировала по этому эпикурейскому пути.
Но как только смысл и цель жизни становится определеннее, истинное благо не может более заключаться в роскоши, противной усовершенствованию нормального цикла человеческой жизни. Вместо того чтобы злоупотреблять всеми наслаждениями, молодые люди, убежденные, что это повело бы к печальным, патологическим последствиям старости и смерти, будут, наоборот, подготовлять себе физиологическую старость и естественную смерть. Учебные годы будут, конечно, гораздо продолжительнее. Уже и в наше время они длятся значительно дольше, чем это было несколько десятков лет назад. Чем более будет увеличиваться масса знания, тем больше времени надо будет для ее изучения. Но подготовительный период этот служит прелюдией зрелости и идеальной старости.
Отталкивающая картина современной старости относится к старости, уклонившейся от своего настоящего смысла, полной эгоизма, узости взглядов, негодности и злости. Физиологическая старость будущего, конечно, станет иной в этом отношении.
В животных обществах, особенно развитых у некоторых насекомых, произошла сильная дифференциация особей. Рядом с особями, способными размножаться, встречаются другие, бесплодные и занятые воспитанием потомства и выполнением необходимых для общества работ. Это обособление, весьма полезное общине, должно было независимо развиться у различных общественных насекомых. Вот почему в муравьиных и в пчелиных обществах работницы — бесплодные самки, у термитов же это особи обоих полов с атрофированными половыми органами.
В людском роде эволюция происходит в ином направлении. Она не приводит к образованию класса бесплодных людей, но так как жизнь человека гораздо длиннее жизни насекомых, то она подразделяется на два периода: первый — плодовитый, и второй — бесплодный.
Старость, являющаяся при настоящих условиях скорее ненужной обузой для общины, сделается рабочим, полезным обществу периодом. Старики, не подверженные более ни потере памяти, ни ослаблению умственных способностей, смогут применять свою большую опытность к наиболее сложным и тонким задачам общественной жизни.
Когда жизнь человеческая значительно продлится, не поведет ли это к слишком густому перенаселению Земли? Уже и теперь жалуются на то, что старики живут слишком долго и не очищают место молодым. Против избытка жизни на Земле будут легко регулировать рождаемость, с тем, чтобы производилось меньшее количество индивидуумов. Количество людей может уменьшиться, но их качество улучшится и долговечность увеличится.
Когда каждый будет знать настоящую цель человеческого существования и признает своим идеалом осуществление нормального развития жизни, он получит верное руководящее правило для практической жизни. Известно будет по крайней мере, куда идти, — чего нет в настоящее время. Теперь хотят улучшить жизнь, но не знают ни как сделать это, ни в чью пользу. Прежде думали, что любовь к ближнему идет, прогрессируя и обобщаясь. Семейная любовь распространилась на племя, а затем на нацию. Думали, что нет никакого препятствия для распространения ее на все человечество. Идея эта очень развилась в XVIII веке и с тех пор стала общим местом всех философских, нравственных и политических систем.
Но со времени чрезмерного усовершенствования и распространения путей сообщения, когда самые отдаленные путешествия стали общедоступными, туманное понятие «человечества» заменилось определенным знакомством с туземными расами многих областей земного шара.
И, действительно, мы видим, что многие из современных теоретиков сокращают распространение общественных чувств на весь человеческий род. В главе V было уже приведено мнение моралиста Сутерлэнда относительно благодеяний, вытекающих из присвоения англичанами австралийских лесов, принадлежавших туземцам. С другой стороны, также известна глубокая ненависть между белыми и черными, особенно в обеих Америках и на Антильских островах. Таких примеров легко можно было бы привести очень много.
Но как же выйти из этого затруднения? Где же должна остановиться любовь к ближнему, если она не может в одинаковой степени обнять все человечество?
Знаменитый немецкий физико-химик Оствальд в своих лекциях о натурфилософии касается этого вопроса. Он называет хорошими «поступки, облегчающие существование других людей». Но к каким «другим людям» должна применяться эта нравственность? Какова величина круга распространения любви к ближнему? — спрашивает себя Оствальд. «По общему мнению, — говорит он, — круг этот должен обнимать семью и нацию, что же касается мнения, будто он должен распространяться на все человечество, то большинству это кажется скорее теоретическим идеалом, чем практически возможным требованием. По этой формуле нравственная деятельность не должна распространяться далее соотечественников. Человечество должно быть исключено из нее.
Здесь мы касаемся одной из задач, относящихся к принципам нормальной жизни. В былые времена главною связью между людьми служил религиозный идеал. Позднее последний уступил место идеалу родины, который за неимением лучшего держался до наших дней. Членов одного народа соединяет общность языка; но успехи цивилизации пошатнули основу этой дифференцировки. Легко допустить большую солидарность между людьми, говорящими на одном языке и не знающими другого, так как это единственное средство для них понимать друг друга. Но знание только одного языка не есть последнее слово человеческого прогресса.
С развитием средств сообщения различные нации все более и более приходят в соприкосновение одна с другой. Поэтому знание иностранных языков стало одной из первых необходимостей современной жизни. При этих условиях национальная связь должна ослабеть так же, как ослабела семейная связь. Враждебность, которая ощущалась к людям, говорящим на непонятном языке, превратилась, напротив, в солидарность, когда стали их понимать. Итак, в этом направлении, очевидно, наблюдается успех, и было бы очень важно отыскать какое-нибудь общее начало для обоснования международной солидарности.
Говорят про общую культурность различных народов, не соображая, что выражение это слишком неопределенно. Признание же истинной цели человеческого существования и науки как единственного средства к ее достижению может служить идеалом для объединения людей. Вокруг него они будут группироваться, как вокруг религиозного идеала.
Весьма вероятно, что научное изучение старости и смерти, которое должно будет составить две новые отрасли науки — геронтологию и танатологию, приведет к значительным изменениям в ходе последнего периода жизни. Все известное по этому доводу подтверждает такое предположение. Но можно ли будет когда-либо дойти до инстинкта естественной смерти? Он гнездится в глубине человеческой природы в скрытом состоянии. Возможно ли будет разбудить его? Так долго не обнаруживаясь, он, быть может, атрофировался? Наука сумеет разъяснить этот вопрос. Чтобы передаваться по наследству, признаки могут оставаться в скрытом состоянии и вовсе не должны проявляться у особи, которая их передает. Так, например, потеря месячных у женщин передается, так сказать, потенциальным способом. После прекращения месячных женщина уже не рождает в огромном большинстве случаев. Признаки пчел-работниц не могут передаваться по наследству этими бесплодными насекомыми. Царица передает лишь скрытые зачатки этих признаков без того, чтобы сами они обнаруживались у нее каким-либо образом. Так, царица никогда не изготовляет воска и не имеет даже восковых желез; но она передает своим бесплодным детям способность производить воск и зачатки соответствующих органов. Нет поэтому никакого основания для предположения, чтобы инстинкт естественной смерти, коль скоро он заложен в нашей природе, потерялся от столь долгого неупотребления.
Случаи инстинкта естественной смерти у человека в настоящее время очень редки. Но благоприятные условия и некоторого рода воспитание инстинкта естественной смерти, по всей вероятности, будут в состоянии пробудить и в достаточной мере развить его.
Много работы предстоит людям, прежде чем они достигнут этой цели. Но характерную черту науки составляет именно то, что она требует сильной деятельности, в то время как религиозные учения и системы метафизической философии ограничиваются пассивным фатализмом и немым смирением. Даже одна перспектива получить в более или менее отдаленном будущем научное разрешение великих задач, занимающих человечество, способна дать большое удовлетворение.
Когда Толстой, терзаемый невозможностью решить эту задачу и преследуемый страхом смерти, спросил себя, не может ли семейная любовь успокоить его душу, он тотчас увидел, что это напрасная надежда. К чему, спрашивал он себя, воспитывать детей, которые вскоре очутятся в таком же критическом состоянии, как и их отец? «Зачем же им жить? Зачем мне любить их, растить и блюсти их? Для того же отчаяния, которое во мне, или для тупоумия? Любя их, я не могу скрывать от них истины, — всякий шаг ведет их к познанию этой истины. А истина — смерть». Понятно, что некоторые люди, дойдя до такого пессимистического воззрения, воздерживаются от произведения потомства.
С точки же зрения, проводимой в этой книге, положение наше кажется гораздо менее безвыходным. Одна уверенность, что человеческая жизнь не представляет ни ложного шага природы, ни бессмыслицы, от которой следовало бы избавиться всевозможными способами, — одна эта уверенность уже способна успокоить умы мыслящих и страдающих людей.
Наше поколение не имеет никаких шансов дожить до физиологической старости и естественной смерти. Но оно найдет, однако, истинное утешение в надежде, что молодые сделают несколько шагов вперед к этой цели. Оно будет думать, что с каждым новым поколением окончательное решение задачи будет все ближе и ближе и что когда-нибудь настанет день, когда люди достигнут истинного блага.
Это прогрессивное шествие требует еще многих жертв; уже и теперь люди науки жертвуют своим здоровьем, а иногда и жизнью, для решения какой-нибудь важной задачи, как например, некоторых медицинских вопросов, касающихся лечения и спасения жизни себе подобных.
Для достижения этого надо, чтобы люди были убеждены во всемогуществе науки и во вредном влиянии глубоко укоренившихся предрассудков. Придется изменить много современных обычаев и учреждений, кажущихся так прочно установленными, покинуть множество распространенных привычек, изменить весь план преподавания — это потребует долгих и тяжких усилий.
Решение задачи человеческой жизни должно неизбежно повести к более точному определению основ нравственности. Последняя должна иметь целью не непосредственное удовольствие, а завершение нормального цикла существования. Для того чтобы достигнуть этого результата, люди должны гораздо более помогать друг другу, чем они делают это теперь. Им необходимо будет получать гораздо большую степень образования, чем та, которой они достигают в настоящее время.
От этого должно значительно выиграть все общественное устройство.
Истинная политика должна будет обосноваться на новых началах. Политика в настоящее время находится в том положении, в котором была медицина в давнее время. В былые времена каждый мог лечить по-своему, потому что еще не существовало медицинской науки и все было неопределенно. Даже и теперь еще у некоторых малоцивилизованных народов каждая пожилая женщина имеет право выполнять роль акушерки. То мать принимает при родах своей дочери, то (например, в касте полайэров в Малабаре) свекровь. Часто в качестве акушерки приглашают просто подругу родильницы. У более культурных народов произошла некоторая специализация: при родах у них служат опытные женщины — настоящие, дипломированные акушерки. У еще более цивилизованных народов акушерки, получившие достаточное образование, находятся под руководством врачей-акушеров, специалистов по этой части. Это глубокое обособление было вызвано успехами медицинской науки и с своей стороны значительно содействовало им.
Современные условия политики соответствуют былому положению медицины. Каждая взрослая личность мужского пола считается достаточно подготовленной к выполнению самых трудных функций, как, например, избирателя, присяжного и т. д. Единственным оправданием этому служит младенческое состояние социальной науки. Когда последняя разовьется, в ней наступит такая же специализация, как и в медицине. Тогда-то пожилые люди, приобретшие большую опытность и сохранившие все свои способности благодаря ненарушенному физиологическому состоянию, окажут будущему человечеству величайшие услуги.
По мере прогресса в направлении к истинной цели существования люди должны будут в значительной мере отказаться от личной свободы. Но зато они приобретут высокую степень солидарности. Чем точнее и определеннее становится какое-нибудь знание, тем менее мы вправе не считаться с ним. Прежде всякий свободно мог учить, что кит есть рыба; но с тех пор, как совершенно точно установлено, что животное это — млекопитающее, подобная ошибка более непозволительна. С тех пор как медицина стала точной наукой, свобода врачей сделалась гораздо ограниченнее. Известно, что некоторые врачи были даже осуждены за то, что не следовали правилам асептики и антисептики. Такие свободы, как свобода не прививать оспы, плевать на пол, предоставлять собакам бегать без намордников и т. д., достойны некультурных времен и должны будут исчезнуть с успехами цивилизации.
С другой стороны, убеждение, что цель человеческой жизни может быть достигнута только благодаря очень большой солидарности между людьми, уменьшит современный эгоизм. Уже один тот факт, что наслаждение жизнью, по правилам Соломона, противоположно истинной цели человеческого существования, достаточен для того, чтобы уменьшить роскошь и все вызываемое ею зло. Уверенность в том, что одна наука способна противодействовать бедам, вытекающим из дисгармонии человеческой природы, неизбежно приведет к развитию образования, что само по себе уже увеличит солидарность между людьми.
Направляясь прямо к цели, надо будет все время справляться с природой. Последняя уже осуществила, например в эфемерах, полный цикл нормальной жизни, приводящей к естественной смерти. В задаче людского предназначения человек никогда не сможет удовлетвориться одним тем, что дала ему природа: деятельное вмешательство его самого будет необходимо. Подобно тому, как он изменил природу животных и растений, человек должен будет изменить свою собственную природу для того, чтобы сделать ее гармоничнее.
Когда дело идет о выработке новой расы, более удовлетворяющей нашему эстетическому чутью или полезной человеку, то специалисты сначала намечают себе тот идеал, которого хотят достигнуть. Затем они наблюдают индивидуальные отличия животных и растений, которых хотят изменить, и производят самый тщательный подбор, чтобы воспользоваться этими отличиями.
Идеал должен соответствовать природе избранных организмов.
Для изменения человеческой природы тоже прежде всего надо отдать себе отчет в идеале, к которому следует стремиться, и затем употребить все средства, представляемые наукой для его существования.
Если мыслим идеал, способный соединить людей в некоторого рода религию будущего, то он не может быть обоснован иначе, как на научных данных. И если справедливо, как это часто утверждают, что нельзя жить без веры, то последняя не может быть иной, как верой во всемогущество знания.
|
Книга приведена с некоторыми сокращениями. |

|
⇐ Перейти на главную страницу сайта |
⇑ Вернуться в начало страницы ⇑ |
Библиотека Ordo Deus ⇒ |
⇐ Бессмертие и современная наука |
⇓ Каталог систематический ⇓ |
Этюды оптимизма Мечников И.И. ⇒ |
|
Внимание! Вы находитесь в библиотеке «Ordo Deus». Все книги в электронном варианте, содержащиеся в библиотеке «Ordo Deus», принадлежат их законным владельцам (авторам, переводчикам, издательствам). Все книги и статьи взяты из открытых источников и размещаются здесь только для чтения. |
|
Библиотека «Ordo Deus» не преследует никакой коммерческой выгоды. |
|
Все авторские права сохраняются за правообладателями. Если Вы являетесь автором данного документа и хотите дополнить его или изменить, уточнить реквизиты автора, опубликовать другие документы или возможно вы не желаете, чтобы какой-то из ваших материалов находился в библиотеке, пожалуйста, свяжитесь с нами по e-mail: |
Вас категорически не устраивает перспектива безвозвратно исчезнуть из этого мира? Вы пытаетесь найти ответ на вопрос как победить смерть? То, что Вам нужно, Вы найдете, щёлкнув по ссылке: «главная страница».
| © Ordo Deus, 2010. При копировании ссылка на сайт http://www.ordodeus.ru обязательна. |